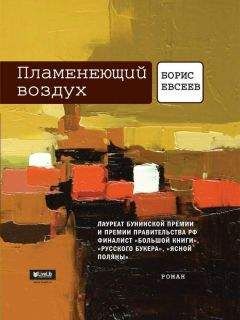Ознакомительная версия.
Ровно через день матушка государыня, после докладу о тайном посещении наследником Фонтанного дома, изволила высказаться:
— Сей «Орфей» — также есть новый Радищев. Хоть и на музыку Княжнина положили, и слов дурацких из его стишков повыбросили, а как есть — Радищев!
Некто, скрывающий лицо от свету (а голос свой — от подслушивающей челяди), согласно кивнул.
— Не оттого ли наследник тайно сему «Орфею» синпатизирует? И какая же в той опере греческая древность? Богов лютыми называют, на Санкт-Питер-Бурх — якоби он преисподняя — в бесстыдных декламациях намеки делают. Не в царствие ли наше метят?.. Увы, увы мне! Бедные уши мои от сего сочинения, — тут слабый смешок, — чувствую, скоро совсем завьянут...
Февральская дорога пылала. Снежные искры! С капельками крови — закат!
Возок сквозь ледяную поземку летел быстро. Вот она, белокаменная!
На Москве Фомин не был с той самой осени, как померла Лизавета Яковлевна. Впрочем, по смерти ее минуло едва ль не пять годков, боль повыветрилась. А вот приязнь к первопрестольной — та засияла как новенькая.
«Эх, эх... Быть бы мне сытым и вольным стрельцом московским, а не пушкарем питерским. Да, видно, никак невозможно. Эх!»
Путь был неблизок: чрез всю Москву, по берегам Яузы-реки, в Кусково.
Выступил из-за холмов смурый и чуток насмешливый московский вечер. А там и ночь, не таясь, сгустилась. К морозу вызвездило. Явилась вполне оперная, словно на полотне намалеванная, луна.
Дворцом Шереметева, вставшим по-над замерзшими водами, нельзя было не залюбоваться. Ясен в препорциях, соразмерен, для жизни счастливой создан!
Нынче, однако, не до любований. Шутка ль? На пятое февраля назначена премьера московская. Три дни осталось! А партии не выверены, и слитности в оркестре скорей всего нет как нет. Да мало ли какие неисправности могут в музыкальном хозяйстве обнаружиться?
Заглавная партия была загодя отдана Петруше Плавильщикову. Тот разучивал ее сам, еще и помогал обучать актеров кусковского шереметевского театра.
Характер у Плавильщикова — добрый, мягкий. Однако ж и выпить горазд, и погрубиянствовать — по-театральному, напоказ — не прочь. Не так давно надерзил его сиятельству. Граф стерпел. Слишком уж хорош был Плавильщиков в драме! Да и в музыкальных спектаклях тож. Некем заменить. Николай Петрович повздыхал-повздыхал и сдержался...
Ни близ Кускова, ни в графской аллее, ведущей ко дворцу, никто Евстигнею Ипатычу не встретился. Устало шипели факелы при въезде в усадьбу, синели по правую руку берега, скованные льдами.
У парадного подъезду опять же никого. У флигелей — подавно. Выткнулась, правда, из-за дальнего крыла дворцового некая фигура в насунутом на глаза картузе. Но тут же и пропала. Дав на пряники графскому кучеру и отпустив возок, Фомин потоптался на месте и, не решаясь стучать в парадную дверь, двинулся к известному ему входу с тыльной стороны дворца. Идя, торопился, закашлялся.
Кашель мучил уже три года. Слезились глаза, взбухал нос, а грудь — та становилась во время кашля и вовсе каменной. Слизь восходила по бронхам долго, гадко.
Выкашлявшись и поплотней запахнув ворот драного тулупчика, двинулся он к тылам. Шел теперь по стеночке: после дальней дороги и надсадного кашля — самое время было за нее держаться.
Внезапно скрыпнули полозья, глухо — по наезженному — забили копыта. Обдав Евстигнея тысячью замороженных брызг, пронеслась к восточному крылу золоченая карета четверней. Из кареты вывалился господин в шубе, называемой «винчур». Евстигнеюшка сладко поежился: хорошо б и ему в такую шубу — долгополую, из туруханского волка — укутаться! Хорошо бы еще и в «маньку» овечью белую (а по-новому, по-петербургски — в муфту) руки сунуть!
Все та же в картузе насунутом фигура отдала туруханской шубе поклон. Поклон, впрочем, вышел неглубокий. Да и картуз скинут не был. Стало быть — ровня!
— Заждались уж... И не узнать вас. Хорошо-с, — хрипло одобрил долгополую шубу картузник. — Следуйте же, милостивый государь, за мной.
Через минуту Фомин по звуку определил: с тыльной стороны дворца отворили обитую железом дверь. Даже показалось: донесло домашним теплом и посыпался перестук чего-то мелкого, словно бы гвоздков, молоточков. Шуба и картузник, судя по удаляющемуся бормотанью, в ту дверь и вошли.
Чуть помешкав, Фомин обогнул угол дворца, двинулся за ними.
Дверь, обитая железом, оказалась незапертой. Однако не успел он сделать и нескольких шагов, как вдруг споткнулся и по крутому уклону стремительно съехал вниз.
«Как Орфей во ад», — мелькнуло в голове.
Тут же, ударившись темечком о каменный выступ, он все слова, да и, как показалось, саму жизнь, — утерял.
Очнулся Евстигней Ипатыч быстро. Где-то невдалеке — однако много ниже места его падения — мелькали огоньки, слышались голоса.
— Тут и встаньте! — произнес с шипеньем чей-то грозный бас. — Суда, суда, правей пожалуйте...
Фомин чуть привстал и вгляделся внимательней.
Внизу, в раскрытом настежь подвале, двигались люди. Некоторые из них держали в руках трехсвечия. Видно было не слишком ясно, но все ж таки он разобрал: весь подпол — и сам по себе темный — еще и завешан черными тканями. На стенах — железные треугольники и косоватые надписи.
Прижмурив левый глаз, прочел: «Memento, quia pulvis es». И чуть пониже по-русски: «Помни, что ты прах». Те ж слова были и на остальных стенах.
От слов сих застучала в висках кровь. Припомнилось: денно и нощно бормотали в Болонье что отцы францисканцы, что отцы иезуиты: pulvis es, pulvis es... Припомнилась и красноволосая Езавель, любившая его с болезненною скукой, а над ложем любви вывесившая все тот же звенящий треугольник...
За стукотней в висках подступил страх.
Испугали не черные ткани, не надписи! Даже не раскрытая домовина с четырьмя вкруг нее скелетами, цепко удерживавшими костлявыми пальцами пылающие трехсвечия. Испугал настенный синий, словно бы живой ковер: подрагивающий от подземного ветра, с золотыми латинскими искорками слов и букв, нашитых по бархатному полю. В словах таилось нечто несвязное, но до стона знакомое. В буквах же отдельных, разбросанных по ковру со значением, — заключены были (так мнилось) указания судьбы.
В левом углу подземных покоев возвышался искусно выложенный жертвенник. Над ним сияла свежестью ветвь неизвестного дерева с листочками. Впрочем, нет! Видал Евстигнеюшка такое дерево, жевал даже цветки его. Дерево звалось акацией. Цвела та акация в Сиенне, цвела и в Риме...
— Братья! — раздался голос, принадлежавший все той же фигуре в насунутом картузе, кутавшейся в недлинную «кирею». «Кирея» — а по-простому чиновничья шуба — была крыта плисом, по рукавам и вороту опушена бобрами. (Бобры шевелились.) — Братья! — дернулась вдругорядь фигура и скинула картуз.
Голова говорившего оказалась коротко, по французской моде (а ля Титус) остриженной. — Восскорбим, братья об убиенном строителе храма Соломонова! Восскорбим об Адонираме. Исполним, братья, обряд. Изобразим, как умеем, Адонирамово убивство. Сей господин, — фигура ткнула палкой в туруханскую шубу, в новоприбывшего, — сей господин Адонирам у нас и будет. А я... Я буду — Соломон. С этой минуты — уразумейте же это — не я говорю с вами, говорит Соломон Премудрый!
Слушайте же меня, Соломона!
Был я, Соломон, избран хранителем познания и символов его. Было у меня хранилище всезнания Адамова до его грехопаденья. И задумал я, Соломон, строить великий храм, сквозь врата коего хотел передать потомству истину познанья. Главным моим строителем был некто Адонирам. Он обладал знанием божественной истины. И собрал сей Адонирам для построения храма сто тридцать тысяч работных людей и разделил их на три ступени. На учеников, подмастерьев и мастеров. Каждой ступени было дано магическое слово. Ученикам — слово Иоаким. Подмастерьям (а еще их звали «товарищами») слово Вооз. Мастерам — слово Иегова. При этом ученики знали одно только свое слово. Подмастерья, звавшиеся товарищами, — и свое слово, и слово учеников. А мастера — те знали все три слова.
Мастера, — здесь говоривший сипло закашлялся, — знавшие и свое слово, и слова низших ступеней, получали за труд свой плату наивысшую. Сие вызвало зависть. А опосля и ярость. Двое учеников и один товарищ захотели выпытать у Адонирама его мастерское слово! По вечерам Адонирам ходил осматривать храмовые работы. Некий ученик подстерег его у восточных ворот, стал выпытывать слово. Адонирам отстранил его и направился, куда ему направиться и следовало: к югу.
Тут настиг его второй ученик и, не услышав требуемого мастерского слова, ударил Адонирама молотком. Кровь Адонирамова хлынула из ноздрей, брызнула из ушей. Кинулся Адонирам назад, к воротам северным. Но тут догнал его товарищ, ударил киркой в лоб и пробил лоб насквозь! Будучи еще живым, успел Адонирам выбросить в колодец золотой свой треугольник. Был тот треугольник священным, был символом все-совершенства духа, и было на нем начертано имя Иеговы!
Ознакомительная версия.