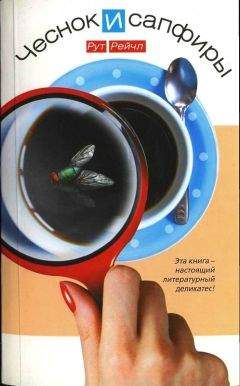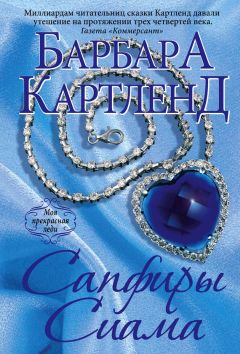Я махнула рукой и свой последний визит в «Баббо» нанесла без маскарада. Меня поджидала опасность другого рода: как только меня узнали, кухня прислала на стол столько еды, что я боялась лопнуть.
— Еда прекрасная, но только больше так не делай, — сказал Майкл, когда мы вышли на улицу.
Моя маленькая драма не шла в сравнение с той, что испытывала Кэрол. В конце лета врачи прописали еще один курс ужасных процедур: медики прочищали ее, словно автомобиль, стараясь оживить пищеварительный тракт. Кэрол ела только жидкую пищу, при этом страстно уверяла всех, что это — временная мера, пустяковое неудобство, которое скоро закончится. Но вот уже начали желтеть листья, а Кэрол по-прежнему пила свои лекарства и на наших глазах с каждым днем таяла.
В первый год Кэрол яростно сосредоточилась на своей болезни, она была убеждена, что сопротивление принесет ей победу. На этой стадии мы слышали о каждом проведенном ею тесте, каждой подробности ужасной болезни, которую она намерена была сокрушить. Мы стали разбираться в онкологической терминологии. Но, почувствовав, что победа ускользает, Кэрол прекратила разговоры об уровне СА 125.[91] Потом она вообще перестала говорить о болезни, словно молчание могло приостановить развитие раковой опухоли. Она неохотно говорила о мучившей ее боли, словно боялась, что, признав ее, она сделает себе этим хуже.
Из того, что я поняла, врачи ее мучили. Однажды утром, когда я ей позвонила, она сказала, что накануне вечером была в больнице для неотложной процедуры: ей вставляли в нос трубки и совершали с ее телом другие немыслимые процедуры. Она сказала об этом мельком, так другая женщина могла упомянуть о посещении театра.
— Но они меня отпустили, — сказала она. — Почему бы тебе ко мне не прийти?
Я удивилась. Мы с Кэрол не ходили друг к другу в гости. Наше общение происходило исключительно в публичных местах. Ее приглашение прозвучало для меня зловеще.
Она жила в Челси, в таунхаузе. Дом она купила, когда район еще не был в моде. Долго приводила его в должное состояние. Когда я отворила ворота, ее маленькая собачка, яростно лая, подскочила к дверям, беспокойно обнюхала меня и пошла следом за мной по лестнице, в уютную комнату наверху.
Кэрол сидела, закутавшись в одеяла. Она выглядела усталой и поникшей: должно быть, в больнице ей пришлось пройти через что-то страшное. Про себя я удивлялась стойкости ее духа, стремлению бороться до конца.
— Я буду жить, — сказала она, хотя я не задала ей никакого вопроса.
Голос ее звучал хрипло, должно быть, во время процедуры ей что-то повредили в гортани. Мне хотелось, чтобы она помолчала: видно было, что речь ей дается непросто. Но она, опередив меня, быстро подалась мне навстречу.
— Спасибо, что пришла. Вчера вечером я подумала, что нам нужно кое-что обсудить.
— Что? — спросила я.
— Тебя, — сказала она и выглянула из окна в сад, выросший благодаря ее усилиям.
— Меня?
— Да. Знаю, ты хочешь бросить свою работу. Чем думаешь заниматься?
Ее прямота привела меня в замешательство. Мои мысли кружили вокруг этой темы, страшась облечься в слова. Но сейчас, столкнувшись с ее прямотой, я сказала первое, что пришло в голову:
— Собираюсь выйти из обеденного зала и вернуться на кухню.
И приложила ладонь ко рту, потому что произнесла то, чего сама не ожидала, но что казалось верным и справедливым.
— А точнее? — спросила Кэрол.
— Не знаю, — сказала я. — Возможно, напишу еще одну поваренную книгу. Или открою еще один ресторан. Или вернусь к прежней работе — стану редактором кулинарного отдела.
— Послушай меня, — сказала Кэрол.
Она положила худую руку на мое предплечье, и ее голос стал очень серьезным.
— Если думаешь возглавить кулинарный отдел, то не делай этого.
— О чем ты толкуешь? — спросила я.
— Думаешь, я не знаю о твоем соглашении с газетой? Думаешь, не знаю, что они хотят привлечь тебя к редакторской работе, когда тебе надоест быть ресторанным критиком?
Она была права. Интересно, откуда ей это стало известно? Впрочем, Кэрол знала обо всем, что происходило на четвертом этаже.
— Не делай этого, — сказала она. — Такая работа не сделает тебя счастливой.
— Поверить не могу, что ты думаешь об этом в такое время, — сказала я. — Не об этом тебе надо сейчас беспокоиться.
— А о чем? — спросила она.
И мы расхохотались: таким абсурдным показался этот вопрос.
— Должна сказать тебе это, — сказала она, отсмеявшись, — потому что никто другой этого не скажет. Но прошу, поверь мне: ты не создана быть редактором в «Нью-Йорк таймс». Начальство страшно не любит редакторов. Они будут цепляться к каждому твоему шагу. Ты будешь таскаться на миллион утренних собраний и тебе будут указывать, что ты должна будешь делать, а чего не должна. Ты возненавидишь все это. Я знаю, тебе нравилось быть редактором в «Лос-Анджелес таймс», но наша «Таймс» совсем другая. Поверь мне, такая работа не для тебя.
— У тебя имеется альтернативное предложение?
— Найди что-нибудь другое. Напиши книгу, стань консультантом, найди работу на радио. Но помни о том, что случилось с Брайаном. Не жди. Найди другую работу, прежде чем уйдешь из газеты.
— Знаю, — сказала я. — Власть не у меня, а у газеты.
— Вот именно, — сказала она. — Стоит тебе бросить работу, и никому не будет интересно твое мнение.
— С чего мне лучше начать? — спросила я.
— Не спрашивай меня, — сказала она. — Повстречайся с консультантом, или с психологом, или с астрологом. Делай что-нибудь. Я должна была сказать тебе, пока не поздно.
В то время я думала, что она говорит о конце моей карьеры. Позже поняла, что Кэрол имела в виду собственный конец.
* * *
Перед Днем благодарения в Нью-Йорке всегда становится холодно. Неприятный, колючий воздух напоминает о грядущих морозных месяцах. Ветер пронизывает город насквозь, и листья спадают в один день. Голые ветви деревьев зябко дрожат. Тротуары так промерзли, что холод проникает в подошвы обуви и распространяется по костям. На руках и на губах трескается кожа. Это самое депрессивное время года.
Но осень девяносто восьмого года оказалась самой мрачной на моей памяти. Никто ничем не интересовался, кроме как Моникой Левински, и Майкл мучился из-за того, что по-настоящему важные события игнорировались. Однажды вечером Майкл пришел домой в приподнятом настроении: ему предложили взять интервью у человека по имени Усама бен Ладен, и он начал готовиться к поездке на Ближний Восток. «Он возглавляет подпольную сеть Аль-Кайеды, — сказал он, — и ФБР взяла его под контроль. Думаю, мы все скоро о нем услышим».
Но чем больше я слышала об этих людях, тем больше беспокоилась. Там было небезопасно, и я боялась, что Майкл улетит и не вернется. Когда он пришел домой страшно расстроенный из-за того, что поездка сорвалась, я втайне испытала облегчение.
— Всему виной мое начальство, — горько сказал он. — Они сорвали интервью.
Несколько недель он был так зол и расстроен, что я подумала: уж лучше было бы мне беспокоиться о его безопасности, чем видеть, как он страдает.
Но к тому времени у меня появились другие тревоги. Кэрол попадала в больницу все чаще и чаще. Сначала она проходила обследования, потом с ней делали там что-то ужасное, о чем она отказывалась с нами говорить. Ее палата в больнице начала походить на жилую комнату — наполнилась растениями, книгами и разными безделушками. Так бывает, когда пациенты поселяются в больницу надолго. С медсестрами она уже подружилась. Вскоре я поняла, что, хотя Кэрол и радовалась встречам со мной, она не хотела и чтобы я у нее задерживалась: ей не терпелось вернуться к тому, что стало ее настоящей жизнью. Кэрол вступила в братство безнадежно больных.
Если человек проживает свою жизнь с удовольствием и борется за нее до последнего момента, то ему вряд ли захочется, чтобы поминали его с унынием. На поминках Кэрол прощальные слова упорно превращались в жизнеутверждающие. Глядя на людей, собравшихся ее проводить, я почувствовала, что каждый из нас думал о том, чем она одарила нас при жизни. Все были ей благодарны.
Сначала я направила сообщение в благотворительный фонд «Голос матери», который Кэрол страстно поддерживала, после того как ее дочь умерла от СПИДа. А потом, поскольку я не знала, что еще можно сделать, я разыскала обрывок бумаги, который дала мне Марион, и набрала номер телефона.
— Я все думал, позвоните вы или нет, — сказал астролог, когда я представилась.
— Да, с тех пор прошло много времени, — смущенно призналась я.
— Ничего страшного, — сказал он. — Я понимаю, что звонить вам не хотелось.
Это был низкий голос старого человека, и мне почему-то стало легче.
— Не смущайтесь, — продолжил он. — Я не требую от вас веры в астрологию. Для многих людей это просто способ собраться с мыслями.