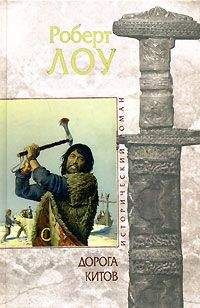Ознакомительная версия.
– Миус-фронт воевал. Третий Украинский фронт воевал. Мал-мала шив остался, осколок мина сиркнул бок, – старик похлопал левой рукой повыше пояса.
А меня, как током, ожгла его фраза о Миус-фронте. Там на степной речке Миусс, между Ростовской областью и Украиной, мой батька проходил боевое «крещение».
– Надо же быть такому совпадению! – не выдержал я избытка прихлынувших чувств. – Мой отец начал воевать на реке Миусс. И его тоже задело осколком мины, только по лбу черкануло... Может быть, вы знали его? Латынин Анатолий Алексеевич?
– Латинин? – задумался старик, – нет, не помню. Кем пиль?
– Связистом. Пехотным связистом.
– Я расветка пиль. Ясиков таскал. Мноко-мноко трусей терял. Латинин не помню... Лисо мок фитеть. Фамилию не помню.
– И все-таки редкое совпадение – в одном месте воевать начали, – уже спокойно добавил я.
– Земля не ощень польшой. Кокта мирно шивешь места мноко, кокта война – мало.
На несколько минут в юрте воцарилась глубокая тишина. Мы молча ели бишбармак, каждый по-своему осмысливая сказанное аксакалом.
Я представил этого старика безусым юнцом в маскхалате, уползающим в поиск за «языком», а в блиндаже передней линии фронта склонившегося над полевым телефоном отца. Впереди траншей – небольшую речку, поросшую кугой и камышом, Миусс... Как же это я не пораспросил отца подробно о его фронтовой юности? Не знаю никаких деталей, подробностей, чтобы обсудить с интересным собеседником.
Аксакал первым нарушил молчание:
– Муш Апа парашек высоко в коры пасет. Апа не мошет нощевать оставить. Мен сторож у всрывников. Есть вакон, есть место спать. Нато ити.
Он опустил пальцы в пиалу с водой, ополоснул их и вытер платом. А потом, чуть нагнувшись над столом с закрытыми глазами, опять огладил свою бороду, сведенными на ней ладонями.
Я догадался, что это было не простое сглаживание, а молчаливая молитва.
Aпу мы так и не увидели больше. Не смогли даже поблагодарить за праздничный ужин. Поэтому, выходя из юрты, не сговариваясь с Михаилом, в голос пожелали: «Мир этому дому».
... На следующий день, распрощавшись с нашим аксакалом, мы поднялись к ледникам. По дороге видели голубые ели, ковры цветов, удивительной прозрачности речки с юркими тенями форелей. Загорали на снегу, купались в гейзерах. Это было горное чудо – сказка за Кайташом. Но ярче всех природных красот в моей памяти зацепился образ простой киргизской женщины, как я теперь понимаю, пожалевшей нас – несмышленых дурачков, отправившихся в горы без должной подготовки и снаряжения. Вот только осталось загадкой – для кого она готовила такой обильный ужин?... А, может быть, это только для нас с Мишей осталось загадкой то, что для нее было привычным движением души – на великий праздник и ужин должен быть праздничным... а гостей Аллах пошлет?!
Случается, что сама жизнь дарит писателю такой полноценный сюжет, что не выдумывать, не додумывать его нет никакой необходимости. Сам по себе он и драматичен, и многопланов, и непредсказуем. Все в нем обнажено и обострено, до такой степени зримо и психологически болезненно, что излишнее украшательство может только испортить общее впечатление. Таковы и эти события 1991 года, свидетелем и участником которых я стал волей случая, а может быть, и иной волей, непостижимой пока для меня самого.
Это воскресенье я собирался провести дома. Отоспаться. Позаниматься с дочкой, посекретничать с ней, разузнать сокровенные девчоночьи тайны – какой всяченой-непустячиной занята душа, что за великие интересы магнитом влекут ее из дома на улицу по вечерам. Выведать про подружек, а может, и дружков сердечных. Много чего в головенке у подростка роится... В колготне повседневных служебных дел, командировочных завихрений, депутатских и других общественных забот почти не оставалось времени на собственную дочь, разве только в отпуске, который мы всегда проводили вместе.
Кажется, что вот совсем недавно, держась за мой палец, чтобы не остаться одной, она засыпала, подкатившись под бок, или, несмотря на материнский запрет, скреблась ко мне в комнату с заговорщицким шепотом: «ну це пи-сись? Писи, писи, я мисять не буду...» И вот выросла, больше под материнской опекой, в полудевицу со своими проблемами и сложностями.
В эти выходные жена наметила поехать на пару дней в ведомственный профилакторий отдохнуть от дочери, а заодно и от меня. А я оставался на родительской вахте. И не больно возражал. Пасха завтра, светлое Христово Воскресенье. Сходим в церковь. Погуляем по весенним солнечным улицам в Солнцево. Посидим за праздничным столом. Пошепчемся. С такими благими намерениями и заснул.
Утром долго нежился в постели, жмурясь от яркого, казалось, весь мир залившего небесного света. Дочка из своей комнаты пришлепала, пристроилась под бок. Вместе смотрели на усердное приготовление жены, как она распаренное лицо оштукатуривала, маску накладывала. Чего перед баней с бассейном прихорашиваться? Видно, натура женская такая, если – на люди, хоть на похороны, все равно перья начистить, хвост распушить. Думал я об этом незлобно, как-то и не очень озабоченно думал. У нас давно так повелось, что мои компании не устраивали жену, а ее окружение – меня. Вот и жили под общей крышей каждый по своему разумению, не принуждая друг друга к единым увлечениям, радостям и привычкам.
Поднял меня из постели назойливый междугородний звонок. Телефон буквально захлебывался трелью, чуть ли не подпрыгивая на коридорной тумбочке.
– И в воскресенье покоя нет. Ну что за жизнь?! – возмутилась жена, лихорадочно пришлепывая на щеки и лоб какое-то белое сусло.
Я тоже без особого удовольствия поднял трубку: «Слушаю».
– Москва? Телефон номер... – затараторил голос телефонистки, – вас вызывает Карабулак. Говорите.
«Чего ради из Чечено-Ингушетии колотятся? Поздравить, что ли, с праздникам решили?» – успел подумать, прежде чем услышал голос абонента.
– Валерий Анатольевич, здравствуйте. Это вас писарь Сунженского отдела Терского казачества беспокоит, Иванов Дмитрий Викторович. У нас беда случилась. Только что убили атамана Александра Ильича Подколзина...
– Как убили? – невольно вырвалось у меня. Скорее не вопрос, а недоуменное восклицание. Кровь плеснула жаром в голову, растеклась по всему телу, делая его безвольным и расслабленным. – Убили Сашу Подколзина?
– Да, – продолжал писарь, – возвращался с кладбища с женой... И его какой-то ингуш двумя ножевыми ударами в сердце наповал.
– Что случилось? – недовольно спросила жена, услышав обрывок моей фразы.
– Сашу Подколзина убили в Чечено-Ингушетии, – машинально ответил ей, погружаясь в какой-то затормаживающий слова и действия наркоз, забыв, что на противоположном конце телефонного привода со мной говорит человек. – Он был у нас с группой терцев, которых я водил на прием в Верховный Совет России.
– Валерий Анатольевич, Валерий Анатольевич, вы слышите меня, – беспокоится голос в трубке.
– Слышу.
– Сообщите атаману Союза казаков Мартынову, в органы сообщите. Нужно срочно что-то делать. Нельзя такое преступление оставлять безнаказанным. Нужно казаков поднимать...
– Когда похороны?
– Во вторник.
– Ваши телефоны?
– Я перезвоню. До свидания.
Я положил трубку на телефонный аппарат и стоял несколько минут около него как замороженный, не в силах сдвинуться с места, что-то говорить, предпринимать. Перед моими глазами стоял образ погибшего товарища – богатырского сложения здоровяка, энергичного генератора идей и действий Сунженских казаков. Еще совсем недавно он устраивал народные гуляния в поселке, с песнями, танцами, пирогами, разносолами. Приглашал за столы соседей-ингушей, чтобы они приобщились к казачьей культуре, ощутили добрый настрой людей, не держали камень за пазухой. А за пазухой прятали даже не камень... «Саша, Саша, сколько раз тебе угрожали, предлагали подобру-поздорову уехать из этой волей бездарных правителей, ставшей немирной, автономной республики? А ты не хотел предавать могилы предков, их кровью и потом политую и, может, потому, такую милую сердцу Сунженскую землю...»
– И что ты собираешься делать? – выцепляет меня из глубокого погружения в беспокойные думы жена.
– Пока не знаю. Скорее всего, придется собирать правление Союза казаков. Намечать какие-то меры...
– Ну вот, как всегда. Ни выходных, ни проходных. Казаки... казаки... казаки... Вы как дети дурные заигрались.
С вас сначала смеялись, а теперь убивать стали. Надоело... У всех мужья как мужья, о семье думают, о куске хлеба в дом. А ты? То над книжками чахнешь, то летишь весь мир спасать, наплевав на самых близких – на меня, на дочку... Да ты же больной, понимаешь? Ненормальный, понимаешь? Тебе лечиться надо, а не мчаться куда попало... Ты же обещал, ты же говорил, что останешься хоть в это воскресенье дома, без своих дурацких правлений, кругов, сходов... Ты же с дочкой собирался побыть...
Ознакомительная версия.