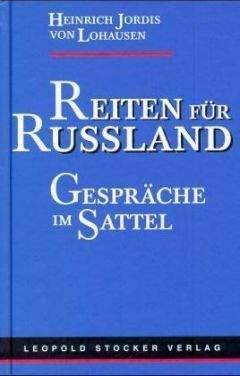Я пишу эти строки во время очередного бейрутского кризиса, когда бесноватые муллы и ублюдочные террористы пустились во все тяжкие, чтобы унизить Америку, а значит, унизить все законы Эллады, заповеди христианства, кодексы рыцарства, все что еще осталось достойного защиты. Будь я молод, я бы записался сейчас в американскую морскую пехоту, чтобы провести какое-то время своей жизни в прямой борьбе за свободу.
Называя лопату лопатой, я скажу, что в наши дни антиамериканисты, даже и такие, как Габриэль Гарсия Маркес, являются врагами свободы и друзьями мирового концлагеря, хотя парадокс Америки заключается в том, что она должна защищать и своих антиамериканистов.
Дождь в Джорджтауне, все замедленно, машины наплывают одна за другой в ритме долгого дождя, почти элегически мы движемся в своем «бэби-бенце» в поисках местечка, чтобы пришвартоваться, мимо маленьких домов с медными ручками дверей, с фигурками уток и фламинго на крыльце, с окнами, за которыми видны картины, камины и лампы, мимо этнических ресторанчиков и маленьких лавок, демонстрирующих фокусы обувной, табачной, мебельной и прочих элегантностей и экстравагантностей, вдруг слегка вздымаемся, оказавшись на мостике через канал, где еще уцелели деревянные шлюзы, — в конце улицы, в сумерках серой полосой прокатывается Потомак появляется расплывающийся красный светофор, обзор закрывается складками плащей, разноцветными клиньями зонтов, мелькают два-три смеющихся лица, ритм внешнего движения вдруг совпадает с блюзом внутримашинного радио…
«Ах, американский дождь…» — вздыхает наша московская приятельница. Третьего дня мы случайно натолкнулись на нес возле памятника Линкольну. «Вот, посмотри, — сказала Майя, на ступенях сидит женщина, как две капли воды похожая на Галю Груздеву».
В первые годы после эмиграции, надо сказать, перед нами то и дело мелькали в американском калейдоскопе знакомые московские лица: то сенатор какой-нибудь на газетной странице оказывался похож на Женьку Р., то баргендер в ресторане на Витьку Е… то банковская кассирша смахивала на Ирину Д. и т. д. Даже в чертах баскетболистов на экране ТВ нам виделись наши прошлые Жорки. Таньки. Светки. Мишки.
Двойник Галки Груздевой встала и оказалась Галкой Груздевой. Оказалось, что большевики вдруг расщедрились и отпустили ее в Америку, и вот именно в Вашингтон, на научный конгресс. Нет. она нам не звонила, у нее и телефона нашего не было. Ну конечно, она могла бы достать наш телефон в Москве, спросить у друзей, но не спрашивала, боялась, трепетала над своей визой, как над фарфоровой как бы не кокнуть, а вдруг отберут, если узнают, что с Аксеновыми дружна.
И вот такая встреча. «Я о вас думала, а вы вдруг материализовались, нет-нет, я теперь не боюсь, ведь это уже Америка». В дождливые сумерки мы едем вместе ужинать в Джорджтаун. Она, не отрываясь, смотрит в окно на брызги дождя и. очевидно, замечает гораздо больше, чем мы, в окружающей столь влажной действительности. Немолодая женщина, ученый-биолог, умная и уже основательно усталая, как и все немолодые советские женщины-биологи. Она впервые в Штатах и. кажется, впервые вообще на Западе.
Вдруг — удача! Какой-то бравый малый бодро подходит к своему «камарро», — значит, мы сможем встать на его место. Я открываю окно. Are you leaving, sir? Он улыбается. Your luck! [120] Галя смеется. «Мне все еще забавно, что вы разговариваете по-английски». В самом деле, забавный образ жизни, соглашаемся мы: внутри ты говоришь на своем языке, открываешь дверь и оказываешься как бы в другом составе воздуха.
…Мы ужинаем в китайском ресторане. Наша приятельница разглядывает других едоков, вполне обычный подбор джорджтаунских dining parties [121].
Знаете, ребята, я иногда думаю, — говорит она, — что американцам, наверное, гораздо труднее умирать, чем нашим людям.
— Ты думаешь, здесь мало беды?
И все— таки. -Она вздыхает. — Здесь, может быть, не меньше драм, но меньше тоски, худосочия, унижения. Жизнь здесь человечнее, из нее уходить труднее, чем из нашей…
— Однако они не знают ведь другой, для них эта жизнь вполне обычна, они не помещают себя в ту жизнь, которую ты. Галя, столь метафорически называешь нашей…
Апрельским пополуднем (так и хочется сказать «афтернуном») я гуляю с нашей собакой в Рок-Крик-парке. В этой его части нет ничего культивированного, возникает иллюзия леса, хотя по берегам каньона в десяти минутах ходьбы располагаются иностранные посольства. Ручей, тропинка, склоны, кусты орешника и вишни, стволы огромных дубов, каштанов и кленов.
Мы одни. Ушик хлопотливо что-то выискивает в камнях и траве, бросает задними лапами прошлогодние листья. Полное отсутствие ветра. Все неподвижно во всем объеме леса и неба. Рассеянный серый свет. Крутой склон прилегающего к каньону парка «Дамбертон оакс» в полном цветении: все оттенки розового перемешаны с пятнами яркой желтизны и пучками белого, и все пронизано нежнейшей зеленью. Я долго смотрю на этот цветущий склон, и вдруг меня посещает уверенность в том, что это не что иное, как душа моей недавно скончавшейся в Казани девяностодвухлетней тетки Ксении.
Она умерла полгода назад, но я узнал об этом только за неделю до этой встречи. Письма из Казани почти не доходят, телефонные звонки из Вашингтона, думаю, — поднимают по тревоге полный состав местного ГБ.
Сестра моего отца, она росточком не доходила ему до плеча, некрасивая, нос картошкой и удивительно голубые глаза. Муж ее погиб, господа, еще в Первую мировую войну, и с того времени она была одинока, если не считать оравы чужих детей, которых ей, поколение за поколением, пришлось воспитывать.
Я оказался в ее доме после ареста родителей пятилетним детдомовцем, и она воспитывала меня до шестнадцати лет, пока я не отчалил в свое магаданское юношество, к ссыльной маме. Во время войны в казанском доме остались одни женщины и дети. Чтобы прокормить всю ораву, тетя Ксения отправлялась и в дождь и в стужу на местную барахолку. Она торговала там чужими вещами и получала с продажи какой-то процент. Дети ждали у окна ее возвращения. Вот она появляется сквозь пургу, кургузая, маленькая, тонкие губы упрямо сжаты. Иногда она приносила краюху хлеба, луковицу, иногда пару килограммов картошки, иногда ничего.
Вернувшись после десятичасового стояния на рынке, она рубила сучковатые дрова — ее натужные выдохи, от которых нам всем становилось стыдно, — варила еду, иной раз устраивала общую баню.
Запомнилась сцена. Я стою в корыте. Она мне трет немыслимо грязную ногу мочалкой, потом отстраняется, как бы любуясь результатами своего труда, и говорит: «Ну вот, сравни теперь ту и эту, какая же лучше?» Мы оба смеемся. Счастливый момент детства — тетка меня любит!
При жизни о тете Ксении говорили: «У нее большая душа». Встретив ее в цветении склона «Дамбертон оакс», я увидел, какая это была спокойная и мирная красавица.
Большевики изгнали меня с моей родины, отрезали путь к дорогим могилам, однако души витают вне их власти и встают перед изгнанниками в воспарениях американской земли.
Штрихи к роману «Грустный бэби»
1985
Из дневника ГМР.
Внезапно я обнаружил себя лежащим на ложе, жестковатость и малопружинистость которого вызывали странные ощущения той жизни. Это ощущение усугубилось пятном на стене, до странности похожим на то, что образовалось там в 1969 году, когда Виктория швырнула в меня банку с майонезом, но промазала, после чего в течение долгих лет это невыводящееся пятно служило мне доброй опорой: стоило только выразительно взглянуть на него, как Виктория прекращала спор и покидала комнату.
«К счастью, все это лишь капризы подсознания», — подумал я. В окно с прежней яркостью жарит солнце Бетховен-стрит, стоит одно из тех утр, не таких уж редких здесь, когда кажется, что за ночь мир переменился к лучшему или, во всяком случае, не сподличал в очередной раз — никто не взорван, никто не похищен.
Если только я сам не похищен. Будто похмельная спазма прошла по коже, показалось, что откуда-то хоть и стороной, но вполне отчетливо прошла фраза «нарастает темп уборки урожая, труженики полей по достоинству оценили меткие замечания товарища Горбачева».
Как обычно, большим пальцем левой ноги я включил телевизор. От сердца отлегло: на экране оказался Брайант Гамбл. Он хоть и сказал по-русски «доброе утро», но все-таки с нашим акцентом. Просто Эн-би-си ведет очередную «живую» программу из Москвы, вот наш парень и научился немного вякать по-ихнему.
На кухне не оказалось ни пива, ни кофе, чтобы поправить голову. Снова взяла оторопь: это ведь тоже оттуда, это выражение, здесь-то давно муки похмелья в отставке.
Отправился на угол в магазин «7» — 11», купить себе кофе. Бетховен-стрит выглядела странновато. Куда-то исчез филиппинец, торговавший с коляски хотдогами и мороженым, весь бизнес которого держался на людях, коим не с руки было пройти лишнюю сотню метров за тем же товаром в «7 — 11». Вместо него стоял богато одетый узбек с золотым орденом Чойбалсана на лацкане цековского спинжака. Чего он тут стоит, к чему приценивается? Откуда вообще взялся этот персонаж среди нашей хипни? Ага, должно быть, просто член делегации парламентариев, вышел из «Хилтона» пробздеться. мечтает о девке…