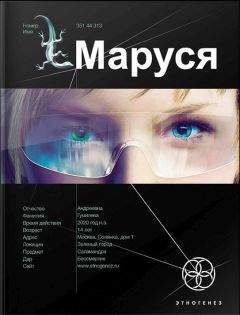Пытливый читатель почерпнет здесь множество сведений о повседневной жизни тюдоровской Англии, ее столицы и округи, о популярных актерах, чудаках и безумцах, о типичных развлечениях и казнях, служивших развлечениями, о притягательном и невыносимом дворе с его интригами, обольщениями и обманами, но больше всего — о книжности, культуре слова и о самой поэзии. В глазах англичан XVI века поэтическое слово — квинтэссенция мысли, заключенной в лаконичную форму, — ценилось неизмеримо выше прозы; поэзия была их божеством. У современного читателя наслаждение от прикосновения к поэтическим шедеврам золотого века неизбежно обостряется благодаря печальному осознанию того, что уже скоро на смену ему придут «прозаические времена» и проза — научная, историческая, литературная — потеснит поэзию. Пока же каждый уважающий себя джентльмен или просто образованный человек упражнялся в стихосложении. Парадоксально, однако, что в «век рифмачей» лучшие из них (если принадлежали к благородному сословию, подобно Филипу Сидни) считали приличным делать вид, что поэзия для них — лишь безделка, и тщательно скрывали, скольких усилий и бессонных ночей она им стоила. Истинную же цену сонету мы узнаем благодаря тому, кто зарабатывал поэзией на хлеб, «потрясателю сцены» Уильяму Шекспиру, который позаботился о том, чтобы тщательно выверить и издать свои стихи, но не счел достойными публикации пьесы. Он полагал, что для бессмертия достаточно сонетов, «Гамлет» же был избыточен.
Избранные Кружковым образцы великолепно иллюстрируют некоторые особенности английской лирики. Принято считать (и не без основания), что люди той поры были эмоциональнее, чем ныне, их всецело захватывали страсти, вызывая то ламентации, то гнев и проклятия, то экстатическую радость. Мужчины с легкостью проливали потоки слез, трепетали при виде возлюбленной или хватались за шпаги в приступе ревности. Все эти бурные эмоциональные проявления неизменно присутствуют в поэзии. «Страсть», «аффект» — одна из ключевых категорий, которыми любили оперировать как философы, так и поэты XVI века, пытавшиеся постичь природу человеческого поведения. «Что жизнь? Мистерия людских страстей», — писал У. Рэли. И первенство среди них принадлежало Любви, благодатную силу или тиранию которой прилежно воспевали английские последователи Петрарки. Однако введенный им сонет не мог не измениться за полтора столетия.
Воздавая должное учителю, англичане больше не хотели мешать «мертвого Петрарки стон певучий» с «треском выспренных речей». Они предложили иронию в качестве противоядия от скуки и неизбежного омертвения жанра и тем самым продлили жизнь сонета. Вспомним хотя бы «смуглую леди» Шекспира, с глазами, «не похожими на звезды», или бесконечные подтрунивания изобретательного Донна над его возлюбленной. Не эта ли инъекция юмора и смелость в обращении с канонами помогли английской поэзии и драме устоять перед нивелирующими все и вся правилами классицизма и сохранить живость интонации, утраченную в XVII — XVIII веках континентальными авторами? Не потому ли Шекспир остается актуальным уже пять веков?
Однако легкость, некоторая фривольность и чувственность, которыми проникнута английская ренессансная поэзия, не имели ничего общего с поверхностностью. В XVI столетии Альбион не мог похвастаться обилием «профессиональных» философов, но многие поэты были оригинальными мыслителями. Их занимали те же проблемы, которые итальянские гуманисты обсуждали в длинных ученых трактатах: о предназначении человека и границах его возможностей, о тяготеющем над ним предопределении или свободе воли, о насмехающейся над людьми Фортуне. Не случайно тема Фортуны вынесена в заглавие этой книги — к ней часто обращались поэты, восстававшие против превратностей судьбы. Неотвратимость смерти — другой постоянно возникающий мотив, в особенности на излете века, когда наивный ренессансный оптимизм стал уступать место маньеристическим страхам и разочарованиям. Какие разные по сути, но всегда великолепные и исполненные достоинства ответы дают английские поэты на мрачные вопросы, от века и до наших дней смущающие человека. Как быть, зная, что впереди мрак небытия?
Вот стоик Томас Во призывает не искать иных богатств, кроме интеллектуальных, ибо разум — единственная опора в земной жизни, и только свои мысли человек сможет забрать в мир иной. Вот мудрый и лишенный иллюзий Дж. Гаскойн в потрясающей «Колыбельной» готовит себя к вечному сну. А поэты младшего поколения дерзают бросать вызов времени и надвигающейся смерти. Джон Донн зовет возлюбленную погибнуть за Любовь и быть канонизированной во имя ее. Ему вторит Эндрю Марвелл в удивительных по силе стихах:
Да насладимся радостями всеми:
Как хищники, проглотим наше время
Одним куском! Уж лучше так, чем ждать,
Как будет гнить оно и протухать.
Всю силу, юность, пыл неудержимый
Сплетем в один клубок нерасторжимый
И продеремся, в ярости борьбы,
Через железные врата судьбы.
И пусть мы солнце в небе не стреножим —
Зато пустить его галопом сможем!
Как и большинство образованных современников, поэты шекспировской поры исповедовали философию неоплатонизма, наложившую своеобразный отпечаток на их лирику. Центральное место в этом учении занимала идея чисто духовного союза любящих душ. Этот мотив характерен для Сидни, Спенсера и, как ни для кого другого, для Донна.
Все они воспевали внутреннюю красоту возлюбленной, которая останется притягательной даже после смерти и возвращения земных тел к первоначальным элементам. Только духовный союз считался вечным и нерасторжимым. Но как же быть с фривольной поэзией, проникнутой неприкрытым эротизмом, станцами «на раздевание возлюбленной» и призывами в духе того же Донна «Не надо покрывал: укройся мною!»? Как отнестись к тому, что в одном сонете автор превозносит добродетели возлюбленной, а в другом признается, что нет ничего скучнее добродетели и что противоестественно любить за одни лишь душевные качества. Как ни странно, примирение этих очевидных противоречий совершалось в рамках неоплатонизма. Остроумный Джон Донн находил, что подлинный экстаз — это слияние душ, но высокая любовь облагораживает и тела, не заслуживающие презрения. Выражаясь языком популярной алхимии, телесные оболочки были необходимы для успешной химической реакции объединения душ и получения «квинтэссенции».
Нерасторжимое единство духовного и телесного начал в глазах поэта позволяло ему со смелостью еретика говорить не только об «алхимии любви», но и о ее «теологии», ибо каждый ее акт поистине божествен.
Эти изящные ухищрения и сложные логические ходы, призванные реабилитировать радости любви, позволяют поговорить еще об одном свойстве английской поэзии XVI–XVII веков — ее интеллектуализме. Она нередко апеллирует не столько к чувствам, сколько к рассудку читателя, стремясь поразить его воображение интересными конструкциями и неожиданными сравнениями. Особенно преуспел в этом искусстве Донн, заимствовавший свои приемы у математика, доказывающего теорему, или юриста, излагающего аргументы в суде. Он любил сложные метафоры-концепты, сравнивая, казалось бы, несопоставимые вещи, но в конце концов доказывая их глубинное внутреннее сходство. Это и образ влюбленных, связанных, как ножки циркуля или полушария географической карты, и уподобление возлюбленной Новому Свету, который предстоит исследовать и завоевать. Такой художественный язык был понятен и импонировал современникам, ощущавшим себя причастными «монархии ума», признанным властителем которой считался Донн.
Образный строй и язык той поры были насквозь эмблематичны. Как в поэзии, так и в живописи существовал набор символов и аллегорий, которые содержали в себе некий шифр, аллюзии на священные темы или сюжеты античной мифологии. Поэтические строки полны этими символами — розами и лилиями, олицетворявшими совершенство и чистоту, упоминаниями Феникса — неумирающей веры и надежды и Пеликана — самопожертвования, Саламандры, охваченной пламенем любви. Стрелы Амура и ножницы Парок были заимствованы из языческих мифов, «говорящие» цвета — из средневековой геральдики, знаки Зодиака — из астрономии, геометрические линии и фигуры — из математики, символы стихий — из алхимии. Эффект поэтического образа был нередко рассчитан на то, что он вызовет у читателя не менее яркий зрительный образ. Поэтому, повторю, особой похвалы заслуживает богатейший иллюстративный материал, собранный автором и творчески обработанный художником С. Любаевым. Редкие портреты, гравюры из раннепечатных изданий, титульные листы книг, изображения из популярных «сборников эмблем» с девизами, расшифровывающими их значение, орнаменты — все это в сочетании с текстами позволяет ощутить подлинный колорит эпохи.