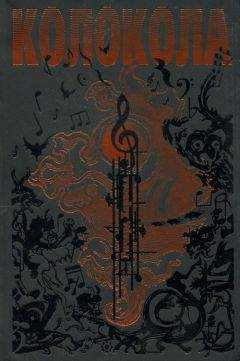Тассо высунул голову из люка и закричал на них:
— Если прикоснетесь к декорациям Куальо, я вам пальцы ваши грязные откушу!
Синьора Клаварау выводила трели в своей тесной гримерной, а в гримерной синьоры Бьянки — я увидел сквозь щель в двери — Эвридику мазали белой краской, чтобы в первой сцене оперы она выглядела по-настоящему мертвой. К тому времени я уже пролил половину вина и оставшуюся часть оберегал, как будто это была моя собственная кровь.
Только у Гуаданьи комната была размером побольше чулана. Я постучал и, не дождавшись ответа, вошел. Любой другой был бы немедленно осыпан проклятиями, но меня он ждал — я понял это по тому, как выжидательно он посмотрел. Он сидел ко мне спиной и разглядывал меня в зеркале. Его отражение поразило меня: ресницы были аккуратно загнуты, морщины разглажены кремом. Он выглядел лет на десять моложе. На какое-то мгновение мне показалось, что я вижу в зеркале свое отражение.
Потом он заговорил. Голос был не мой.
— В империи кончилось вино?
Я покачал головой и протянул ему бокал. Он сделал глоток и отставил его в сторону. Глюк довел свой план до конца: не было ни павлиньих перьев, ни золотого кружева, ни парика. На Орфее была простая белая туника, открытая на выпуклой груди.
Я стоял за ним. Он, глядя на себя в зеркало, сделал вдох через раздувающиеся ноздри, потом закрыл глаза и, сложив рот в узкую трубочку, осторожно выдохнул воздух, как будто задувая свечу. Нужно, чтобы печаль становилась все сильнее, сказал он мне, чтобы публика поверила в нее.
У меня даже пальцы на ногах свело.
— Синьор, — наконец спросил я, не в силах стоять там более. — Я вам нужен?
— Тебе еще куда-нибудь нужно идти?
— Нет, — ответил я. — Я не хочу тревожить вас, вот и все. Мне подождать снаружи?
Гуаданьи помедлил с ответом, но я знал, он никогда не признается в том, что хочет, чтобы я был рядом.
— Хорошо, — сказал он.
Я вышел за дверь и чуть не столкнулся с четырьмя носильщиками, державшими в руках похоронные носилки Эвридики. Уклонившись, я схватил за руку тощего мальчишку — мне показалось, что он слоняется без дела, — и приказал ему стоять у дверей Гуаданьи и что есть мочи орать в подземелье Тассо, если певец позовет меня.
— С какой стати? — спросил мальчишка. И взглянул на меня, возвышавшегося над ним, так, будто я был значительно ниже его ростом.
Я порылся в карманах. Пусто. Тогда я пообещал заплатить ему двадцать пфеннигов. Он кивнул и занял свой пост, а я нырнул в открытый люк. Под сценой, в подземелье, сидел Николай, опираясь на обломки кровати Тассо. Я улыбнулся: чувствовал он себя вполне непринужденно. Ремус сидел рядом с ним на полу, прислонившись спиной к холодной железной печке. Тассо носился по своему темному подземелью, проверяя веревки и смазывая маслом блоки. Потом он подскочил, просунул голову в люк и начал орать на тупых помощников, чтобы те зажигали лампы. Так он и висел, будто это было одно тело, без головы, и дергался от ужаса, потому что они чуть не подожгли занавес. А Николай, казалось, не замечал, что карлик занят; ему очень хотелось знать все о каждой веревке и о каждом люке.
— А это что за ворот, вон там, впереди? — поинтересовался он. — Чтобы платье императрице задирать? Чтобы все увидели, какие у нее нижние юбки?
— Это чтобы поднимать софиты нижней рампы! — проворчал Тассо, полный презрения к невежеству Николая.
— А вон та веревка? — спросил Николай, прищурившись от света тусклой лампы.
— Открывает и закрывает центральный люк!
— Удивительно, — обратился Николай к Ремусу, — как много он знает.
Ремус с недоверием посмотрел на Николая.
— Не трогай ничего! — прошипел он так, чтобы не услышал Тассо.
Николай воздел руки. Тассо не стал настаивать, чтобы они были связаны.
— Я невинен, как императрица.
Я был так счастлив, что Николай радуется. И, проползая мимо, обнял его.
— Куда ты пошел? — спросил он.
— Смотреть, — обернувшись, ответил я. — Смотреть!
Несколькими днями раньше я обнаружил небольшой глазок, через который Тассо наблюдал за Глюком. Я подполз к нему и стал смотреть. Никогда я не видел такого величественного зрелища. В «бычьем стойле» громко разговаривали самые благородные в мире мужчины. В ложи должно было доноситься каждое их слово, и в этом конечно же был определенный умысел. А прямо над ними нагруженная свечами люстра слабо позванивала в ответ.
Налево от меня, сразу за оркестром, находилась королевская ложа. Сегодня вечером ее украшал навес темно-красного цвета, как будто в театре ожидался дождь. В центре сидела румяная, пышущая здоровьем великая женщина, мать шестнадцати детей и целой империи. Ее щеки цвели, как будто кто-то надавал ей пощечин. Сидевший за ней император — с узким кривым ртом и носом картошкой — представлял собой фигуру бледную и скучную. Они были окружены сонмом детей.
Но я прильнул к этому глазку совсем не за тем, чтобы увидеть императрицу.
Сотни глаз смотрели вниз из двойной галереи райка, как будто собираясь спрыгнуть вниз. Возможно, они и рискнули бы получить травму, но, приземлившись на какую-нибудь герцогиню, навечно лишились бы права посещать театр.
Мои уши прислушивались к театральным звукам. Она должна быть здесь, должна..
Послышалось хаотичное, режущее слух звучание — это начал настраиваться оркестр. Стали заполняться ложи. В большинстве сидело по шесть человек: трое вдоль перил, еще трое за ними. (Какой длинной шеей нужно было обладать, чтобы увидеть сцену из этого второго ряда!) Младшие сыновья и дочери стояли позади своих старших братьев и сестер. В каждом отделении горела лампа, и поэтому каждая ложа сама была как сцена.
И вот, на втором ярусе, напротив императрицы, появились они. Они были так близко, что я мог рассмотреть набрякшие жилы на шее графини Риша. Граф Риша вошел вслед за ней. Потом, перед Антоном, в ложу ступила Амалия — и моя душа воспарила. Она здесь! За ними проследовали еще четыре отпрыска Риша. Но я смотрел только на Амалию. Ей было предложено почетное третье кресло в первом ряду фамильной ложи. Антон сел за ней. Он положил ей на плечо руку и улыбнулся, как будто говорил: Видите? Вы видите, что я был прав?
Я был уверен, что очень скоро она снова станет моей. Когда Орфей посмотрит в глаза Эвридики, Амур будет так же добр к нам, как и к тем знаменитым любовникам на сцене.
Оборванец, которого я оставил сторожить двери моего хозяина, завопил в нашу пещеру:
— Гуаданьи зовет своего мальчишку!
Этот маленький негодяй стоял над крышкой люка, вытянув руку в ожидании награды. Я улыбнулся и пообещал заплатить ему завтра. Он ухмыльнулся и поставил мне подножку, когда я проходил мимо.
Я споткнулся и едва не упал перед дверью Гуаданьи как раз в тот самый момент, когда он ее открывал. На плечи певца был накинут камзол, его лицо было спокойным.
— Я готов, — произнес он.
Я кивнул, но был не уверен, что нужно делать. Повернулся к толпе рабочих сцены, стоявших в тупом восхищении вокруг певца.
— Он готов, — повторил я.
Первый раз в жизни окружающий мир подчинился моим словам. Суета прекратилась. Подобно гигантским летучим мышам, Фурии разлетелись и спрятались в дальних углах кулис. Рабочие разошлись по своим местам и замерли. Хор ринулся на сцену. Эвридика забралась на носилки и умерла. Едва Гаэтано Гуаданьи вышел на сцену, шум за занавесом смолк.
Я шел следом за ним. Мои шаги были такими тяжелыми, что казалось, они доносятся до самой императрицы. Гомон публики по другую сторону занавеса походил на шум стоящей у ворот вражеской армии. Гуаданьи остановился посреди сцены. Прижал кулаки к груди. На его лице была печаль.
Он кивнул мне.
Что я должен сделать? Я посмотрел налево, направо. Все рабочие, все артисты хора смотрели на меня, но сочувствия в этих пустых взглядах я не нашел. Давай делай, говорили эти взгляды. Все ждут, когда ты выполнишь свою работу.
Что делать? Уйти? Выглянуть из-за занавеса и сказать Глюку, что все готово? Мне никто ничего не объяснил! Я никогда раньше не был в опере!
Потом я понял — камзол. Это был камзол Гуаданьи, а не Орфея. И я снял камзол с его плеч, словно одеяло со спящего ребенка.
Едва раздались аплодисменты, я убежал со сцены. Глюк, привлекая внимание, дважды стукнул палочкой и начал увертюру. Гуаданьи стоял не двигаясь, со склоненной головой. Огни рампы на краю сцены были только слегка приподняты, и его лицо оставалось скрытым в полутьме. Стоявший за ним хор плакальщиков был недвижим, казалось, он нарисован на картине.
Увертюра закончилась. Занавес раскрылся.
Зазвучал печальный марш. Стоявшие за мной носильщики подняли похоронные носилки с Эвридикой и медленно двинулись на сцену. Гуаданьи стоял уставившись в пол, пока не запел хор. Потом он начал поднимать голову, пока его глаза не остановились на возлюбленной, бездыханно лежавшей перед ним.