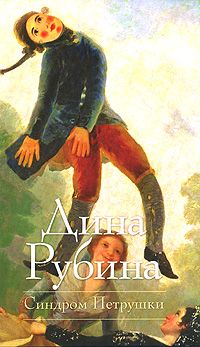Словом, было благодатное и плодоносное время зимних праздников, и между ним и Лизой — я видел — все было неплохо; пару дней понаблюдав ее, я даже снизил дозу лекарств.
Как выяснилось, зря.
Кстати, было еще мною сделано некоторое открытие. Загадочное.
В первый же вечер, извлекая что-то из необъятного беспризорного шкафа, доставшегося им по наследству от, как говорил Петька, лошадей, он приоткрыл дверцу, и на верхней полке — куда не положено было заглядывать посторонним, ну а мне-то, с моим ростом, видно было все как на ладони — я в полутьме заметил чем-то знакомую куклу, но не Петькину, а чужую.
— Постой… — вымолвил я, обернувшись в сторону холодильника, где на старой, прижатой магнитиком фотографии рядом с маленькой Лизой как раз и сидит… Да не об этой ли „родильной кукле“ семейства Вильковских рассказывал мне доктор Зив? Драматический приз, проигранный в карты, вновь возвращенный в семью и опять пропавший? А ведь, похоже, то был он — старый еврей в жилетке, с пейсами, с трубкой в руке, мягко поблескивающей медным мундштуком в полумраке шкафа… Где же он хранился до сих пор? И откуда выплыл?
— Постой, ведь это?..
Петька приложил палец к губам, мягко отвел мою руку от дверцы шкафа и притворил ее, буркнув:
— Потом… когда-нибудь.
С моим приездом, как обычно, из дворового сарая был извлечен „докторский тюфяк“ — попросту матрас на деревянной раме, сбитой Петькой еще в мой первый приезд. Он замерз и задубел, мы внесли его в дом и стоймя прислонили к стене в мастерской, чтоб к ночи разомлел и оттаял.
Когда я вышел из душа, с алчностью обоняя запах жареного лучка в именном блюде „Восемь яиц доктора Горелика“, матрас уже оседлали двое — лукавец Фаюмочка и эстрадная дива Анжела Табачник. Эти всегда работали дуэтом, выдавая потешные диалоги. Сейчас они пребывали в ссоре: сидели на приличном расстоянии друг от друга, свесив ножки и остервенело бранясь.
„Ты, тол-сто-жо-о-пая… — тянул Фаюмочка бархатным своим голоском. — Думаешь согреть доктору матра-ас? Хочешь ночкой подвалить к доктору, а-а?..“
Та визгливо обзывала его наглецом, убогим клистиром, тупицей, одновременно умудряясь хвастать обновками. „Ах, какой я купила чудный лифчик, — говорила она, меняя хамский тон на чистую поэзию, — бежевый, кружевной, с красными розочками…“
Мой друг в это время сидел за столом, с двумя карандашами, заложенными за оба уха, и, сосредоточенно хмурясь, вынимая то один, то другой, почесывал им в волосах — делал вид, что работает.
„У тебя сколько мужей было, а? — не унимался Фаю мочка. — Теперь доктора захотелось, бесстыдница!“
А та отбрехивалась и все хвастала — видимо, с дальним прицелом „на доктора“ — соблазнительными красотами нового бельишка: кружавчики, застежечки, красные розочки… миллион, миллион алых роз… „Вот попаду под машину, — мечтательным голосом говорила она, — и медсестры в приемном покое станут меня раздева-ать и от зависти языками цо-о-о-кать…“
— Может, хватит? — наконец заметила Лиза, переворачивая на сковороде яичницу. Петька поднял голову от работы, уставился на кукол, как бы удивляясь — а эти что тут делают? — и гаркнул:
— Эй, ребята, а н у, заткнитесь!
Поднялся и развел скандалистов по разным стенкам.
— Боря, — сказала Лиза, ставя передо мной тарелку на стол. — Ты не находишь сходства между нашей обстановкой и твоей клиникой?
К ночи тюфяк возлег, где обычно: вдоль окна-двери, так что, лежа, я видел в просвете между занавесями спутанные жилы плюща на монастырской стене, жестяной дворовый фонарь на столбе, кособокую дверь сарая и ледяные горбы, сквозь которые в круговерти задумчивого снега парил призрачный Петька за призрачным столом…
Ко мне прибежал расседланный к ночи трехногий Карагёз, вскочил на тюфяк, свернулся, пригрелся на моей мохнатой груди, и в какой-то момент я заснул, и проснулся, и опять заснул… И снова проснулся, когда в половине четвертого пропела свою надтреснутую песенку пастушка из ходиков, к которым я никогда не мог привыкнуть. А Петька все сидел, сосредоточенно чиркая что-то в своих бумагах и тихо шурша.
Две лампы-прищепки, прикусив край стола, причудливо освещали снизу его лицо желтоватым светом. И таинственный этот свет, и пугливые огромные тени, скользящие по стенам от малейшего взмаха его руки, и куклы, терпеливо ожидающие во тьме знака к началу какого-то действа, но главное, его непривычно подсвеченное средневековое лицо: скульптурный подбородок, орлиный нос, высокие надбровные дуги — все это создавало картину нереальную, сновиденную, даже пугающую… Может, именно так, в глубоком подвале одного из домов пражского гетто, сидел когда-то над свечами великий и властный, ученейший рабби Йегуда Лёв бен Бецалель, размышляя о способах оживления своей огромной куклы?..
— Ты чем занят? — пробормотал я, чтобы развеять наваждение.
— Да так… поролон на песий костылик приклеил. Стучит очень, сил нет…
— Ты что, вообще не ляжешь? — сонно удивился я, и он буркнул, не поднимая головы:
— Дрыхни, дрыхни. Твое дело гостевое…
Потом все же поднялся, погасил лампочки и вышел. Слышно было, как в спальне что-то смутно-вопросительно бормотнула Лиза, и его голос шепотом ответил нечто вроде — „цып-цып-цып…“. Затем дверь спальни плотно затворили, и я подумал в полусне библейской фразой: „и вошел человек этот к своей жене…“, усмехнулся, поправил себя: „к моей жене“… повернулся на бок, подгребая ближе к себе горячее щуплое тельце Карагёза, и наконец крепко уснул.
* * *
А утром — мы с ним завтракали рано, вдвоем, не дожидаясь Лизы — та поздно вставала, — он спросил:
— Составишь вечером компанию? У меня халтурка в одном клубе, типа кабаре. Живые бабки в руки, и кормят, и жратва, говорят, неплохая. — Вопросительным взглядом дождался моего кивка (рот был занят) и добавил: — Только учти, для Лизы это — корпоративная вечеринка.
Я понял, что заказан именно его номер с Эллис. Вспомнил мое с ней нечаянное свидание в галерее Прохазок и смутился, будто речь шла о тайной интрижке:
— А если Лиза захочет с нами пойти?
— С какой стати? Во-первых, приглашение на двоих, а ты гость, я обязан тебя развлечь. Во-вторых, она терпеть не может толкотню, в-третьих, утомляется к вечеру.
— С огнем играешь, Петька! Давно ли мы не слышали об украденной душе?
— Отвали, не каркай, — спокойно отозвался он, намазывая масло на тост, — Лиза в отличной форме, — вскрыл крошечную упаковку с жидким медом и, опрокинув ее над творогом в своей тарелке, медленной янтарной струей вывел готический вензель — букву „Л“. Оглянулся на дверь и понизил голос: — Кроме того, Лиза уверена, что Эллис безнадежно сломана: я, видишь ли, оступился, грохнулся с ней со сцены, так что вся механика побита, глаз лопнул, и так далее, и ты хорошенько это запомни… А в кабаре за пять минут дают пятьсот евро. Что — отказаться? Охренел ты, что ли? Побойся бога!
И я благоразумно промолчал: пятьсот евро — довод убедительный.
Я смотрел на его руки, что совершали над столом самые обычные движения, и думал, что вечером эти руки будут совсем в другом мире: частью куклы будут, частью волшебного действа.
Это был мой последний день в Праге. Завтра на рассвете — улетать.
А он заторопился, вскочил, принялся метаться по мастерской, закидывая в рюкзак какие-то необходимые вещи, спотыкаясь о мой тюфяк, чертыхаясь…
Наконец заглотал свой остывший кофе и умчался.
Я остался бродить по мастерской в гостевом одиночестве. В стылом утреннем свете, совсем не таинственном, по стенам буднично висели куклы, и чуть не половину мастерской занимал невероятный, обеденно-рабоче-раскройно-чертежный стол, на котором и за которым у обитателей этого дома была сосредоточена изрядная часть жизни.
Я заглянул в одну из открытых картонных коробок на углу стола. Она была полна заготовками из папье-маше, теми, что Петька делал в свободное время для „воркшопов“: болванки лиц, нечто вроде головы Голема — полуфабрикат, из которого потом можно сделать кого угодно, расписав маску и наклеив парик…
Петька объяснял мне когда-то, что зрительская фантазия гораздо богаче готовой бездарной куклы и что в такой вот болванке уже заключен некий образ, который зритель может дополнить своим воображением.
Выудив из коробки одну болванку, я повертел ее в руках… Длинная вытянутая морда, едва обозначены рожки, бородка: черт? козел?..
В этой заготовке, в этой отдельной голове заключался целый спектр эмоций. Если глянуть анфас, то — оскаленная, с раскосыми узкими глазами — она выражает злобу и хитрость. Но если чуть склонить ее набок и немного опустить подбородок, оскал исчезает, и остаются полуприкрытые, очень печальные глаза…
Меня так и подмывало достать из шкафа и подробно рассмотреть старую куклу Вильковских. Ведь это ее, пропавшую из семьи на целых три года, так горько оплакивали сестры-наездницы, Яня и Вися? Впрочем, возможно, все было иначе, и то, о чем рассказывал доктор Зив…