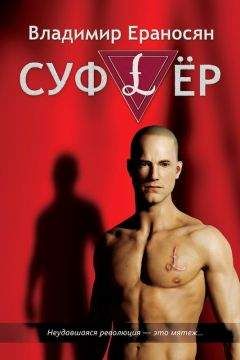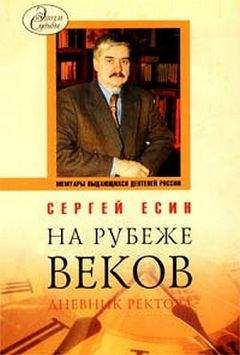Новый дом
Я не понимал, чем же новое наше жилье хуже старого? По своей природе я всегда остро чувствую добро и быстро забываю плохое. Я уже и не помнил, как расставались мы с двухкомнатной квартирой. Но мне стало ясно, что наша новая — назовем условно — квартира, конечно, просторнее, светлее и даже удобнее, чем проходная комната и смирная жизнь за занавеской.
Меня просто очаровали дощатые, некрашеные и такие непривычные после паркета, пахнущие свежим деревом полы. И какой из окон открывался вид: огромный двор, залитый асфальтом! На другом конце асфальтового поля жался маленький двухэтажный особнячок, окруженный палисадниками; справа от асфальтовой нивы высился многоэтажный гигант, из окон которого раздавались музыка, громкая речь и другие радиошумы. Между домами, большими и маленькими, — ворота. Но ведь были еще и разные закоулки, в которых стояли роскошные, слепленные из старого дерева и огрызков досок сараи — немалое подспорье в решении жилищной проблемы того времени. В начале лета многие семьи, вернее, молодая их часть, с энтузиазмом переезжали в эти сараи, оборудуя их электричеством, радио, обставляя салфеточками, вязаными подзорами, покрывальцами, и наслаждались не коммунальным, а индивидуальным семейным счастьем.
Меня интересовал прохладный и таинственный мир этих сараев. Помню, как выходила замуж наша молодая дворничиха Аля, старшая сестра моего друга Абдуллы. Дворовые легенды передавали удивительно романтизированные подробности знакомства жениха и невесты. Невеста, дворничиха Аля, будто бы разрядившись, оставив в служебном сарае орудия своего производства — совок и метлу, — вместе с подругой поехала в Центральный парк на танцы. И вот на танцах, будто бы лицом к лицу, Аля встретилась с татарином Колькой. Только что демобилизовавшийся Колька взглянул в лицо Али, и обомлел, и не посмел приблизиться, а онемевший, неотступно ходил за двумя весело чирикающими девушками. Потом Колька так же молча проводил девиц до троллейбуса, испепеляюще глядел на Алю в городском транспорте, перепугал прекрасную дворничиху, когда, топая сапожищами, перебежал вслед за нею двор, не отступил на лестнице, ведущей в подвал, ворвался в комнату, где жило многочадное семейство, и уже в недрах оторопевшей от ночного визита семьи бросился в йоги поднявшемуся в одних кальсонах ото сна отцу крутобровой Али.
Через неделю в подвале зарыдала зурна, забил бубен и запела гармошка: выдавали Алю замуж. Тогда невеста совсем не казалась мне такой уж молодой и прекрасной. Глядя на грубоватое лицо и тяжелые, привыкшие к мужской работе руки Али, я вообще думал: можно ли в нее влюбиться? Но в день свадьбы в красивом платье из довоенного еще крепдешина, в цветастом полушалке и с монисто на шее она казалась мне прекрасной, как райская птица. И праздник казался мне прекрасным. Сначала на асфальтовом пятачке выплеснувшаяся из подвала свадьба поплясала и попела татарские песни, потом под военные песни потанцевал весь дом, а затем молодые, отрешившись ото всех, придерживаясь затененных углов, прокрались в свой сарай. Господи, как билось мое сердце, когда из кустов я увидел, как тихо за ними закрылась обитая жестью дверь. Что же там? Какие же божественные прикосновения творились за закрытой дверью? О чем шептались влюбленные? Какими прекрасными словами наградили молодожены темный сарай, сумевший подарить им тишину и одиночество в перепаханной коммуналками Москве…
Был еще длинный гараж на шесть или семь машин и между гаражом и сараями — чудесная свалка. По переулку, на который выходил фасадом наш новый дом, стоял еще один — небольшой, деревянный. Между этим домом и нашим тянулся деревянный забор, с которого однажды я спрыгнул, играя в казаки-разбойники, на нашего участкового. А в деревянном доме жила тогда молодая женщина, отчаянно дравшая меня за юношеские проделки. Через тридцать лет мы встретились с нею в одном учреждении. И потом, принимая у меня пальто, она каждый раз отчаянно хихикала:
— А ты помнишь, как я тебя жучила?
— После этого, тетя Груша, я и поумнел. Видишь, какой я теперь важный.
— Только почему ты всегда лазил на крышу, подглядывал за девочками?
— Тише, тетя Груша, не роняй авторитет руководства.
Со многими жителями нашего дома и двора позже меня сталкивала жизнь. Парень, с которым некогда я снимался в массовке на «Мосфильме», как-то принес мне для постановки пьесу. Честно говоря, парень этот был в те дальние времена выскочкой. Воспитанный в почти писательской среде — мама у него была сценаристкой, — он, по-моему, не кончил института, а, понадеявшись на свой домашний талант, рано пошел по пути человека свободной профессии: пока был молод и свеж, снимался в кино, потом начал пописывать, стругал репризы для цирка, скетчи для эстрады и самодеятельности. Когда мы встретились, он писал по заказу какого-то зарубежного издательства книгу с рецептами русской кухни. Я не сказал, с кем он разговаривает, и встретил его в кабинете, полном всяких административных игрушек: диктофонов, селекторов, шумящих телетайпов. В кабинете приглушенно сопели два телевизора, установленные на разные программы.
В этом и выразилась моя мальчишеская жажда реванша. К чести гостя, должен отметить, он и ухом не повел, встретившись с такою административной роскошью, и пьеса у него была очень приличная. Но вернемся к пейзажу из полукруглых окон.
Через неделю после того как мы въехали в этот дом, на полукруглых окнах висели белые крахмальные занавесочки, и ах как хорошо, уютно и чисто было в нашей восемнадцатиметровой комнате, названной почему-то квартирой.
Вся разномастная мебель из прежней двухкомнатной квартиры перебазировалась сюда. И огромный обеденный стол на толстых квадратных ножках, и шифоньер, и панцирная кровать — мамина! — с белыми эмалированными шариками, и этажерка с книгами, и буфет с наборными из граненого стекла дверцами, и диван — все переехало сюда и уместилось в одной комнате, сделав ее родной и уютной.
Но и сам дом — он тоже поражал воображение.
Меня сначала обрадовало множество дверей «квартир». Пишу в кавычках потому, что, как правило, «квартира»— это лишь одна или две комнаты без кухни и, конечно, без ванны, без туалета, в редких счастливых случаях с раковиной.
Было весело взбегать по узкой лестнице. Лестница коротким маршем, правда, шла и в подвал, и там тоже был целый мир: посередине коридор, а справа и слева от него множество, как в душевом павильоне, дверей, — потому что в подвале жило семей, наверно, больше, чем во веем доме.
И все же моим миром были верхние этажи. Пока бежишь, сколько новой информации западает в цепкую юношескую душу: на первом этаже от Перлиных валит столб сизого чада — жарят на керосинках рыбу; у Сбруевых — три дочери, живущие вместе с пьяницей-отцом, — ругаются; у Панских лает собака. Уже на втором этаже, пробегая коротким аппендиксом к нашей квартире, встречаешь сухонькую Елену Павловну, в коричневой шляпке с блеклым цветком — идет на фабрику сдавать работу, расписные платки, она художница-надомница. На площадке узкой лесенки, которая ведет к двухкомнатным апартаментам Телекевичей, Раиса Михайловна жарит на постном масле мои любимые картофельные оладьи. Честно говоря, я и позже не едал яства вкуснее. «Здравствуйте, Дима, — во весь свой командирский голос кричит Раиса Михайловна, — хотите оладушек?» Но тут звонит телефон. Второй на весь дом. Один висит на стене в подвале, а второй — на втором этаже. «Алло, алло, кого вам? Ах, Сильвию Карловну?» Я стучу в дверь, видимо, лучшей и самой удобной квартиры в доме. Я никогда в ней не был. О расположении комнат и убранстве мигу судить лишь приблизительно, высчитав окна покоев Сильвии Карловны по фасаду и прикинув по той части вестибюля, отгороженного капитальной оштукатуренной стенкой, которую Сильвия Карловна оттяпала году в сорок втором — сорок третьем, когда дом был почти пустой. У Сильвии Карловны единственный в доме балкон. Но он расположен как раз над парадным входом, даже не балкон — лоджия с целой стеклянной стеной. За этой стеклянной стеной и расположена комната Сильвии Карловны и ее мужа, тоже тихого и деликатного человека. Они жили без детей. Муж уходил рано на работу и поздно возвращался в неизменном коричневом драповом пальто и с коричневым портфелем. Сильвия Карловна выходила к телефону, муж никогда. И в моей памяти только и осталась неприметная фигура с коричневым портфелем. Ни лица, ни имени не помню. Как-то они исхитрились и за капитальной перегородкой устроили себе и прихожую, и небольшую кухню, и уборную, о которой я догадывался, потому что даже из-за капитальной перегородки — телефон, запакованный в ящик с английским замком, правда, редко запиравшийся, висел как раз на ней, — так вот из-за этой перегородки изредка доносилось иерихонское рычание спускного устройства. А потом, они никогда не посещали скромной клетушечки, находившейся как раз возле нашей двери. Но что же было за дверями Сильвии Карловны? Каждый раз, подзывая ее к телефону, я видел лишь краешек чистенькой, вылизанной кухни и аккуратно закрытую белую высокую двустворчатую дверь в комнату. Мне почему-то казалось, что там, за закрытой дверью, в комнате, утопающей в коврах, с тропическими растениями, вьющимися вдоль стеклянной стены, в свободное от кухни и телефонных разговоров время Сильвия Карловна возлежит на тахте в роскошных, как Шахразада, шальварах, курит кальян и полной горстью ест восточные сладости.