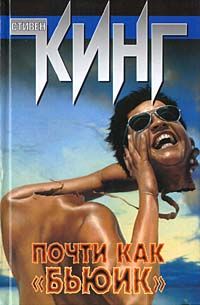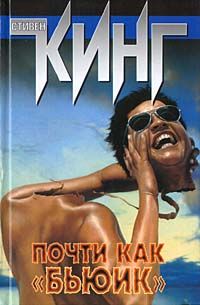– Горе луковое, – заулыбалась она, поправляя мне волосы и одновременно поддерживая голову, словно боялась, что я упаду. – Где ж твое хваленое чувство защищенности?
Лето 1976 года было, наверное, тем самым чудом, о котором мечтал весь город. В центре над набережной маяками высились шпили-близнецы совсем нового, еще не согретого дыханием жизни комплекса «Ренессанс», величаво вознесшегося над пакгаузами и окрестными пустырями; они так зазывно сверкали стеклом и хромом, что вполне могли соблазнить новые семьи переселиться в эти пользующиеся дурной славой кварталы.
В один из не самых приятных июньских вечеров, когда душная мгла окутывала опоры прожекторов и ложилась на верхние трибуны, мы с отцом и моим восьмилетним братом Брентом отправились на стадион «Тигр»; два из наших мест оказались за столбами, и нам пришлось по очереди садиться на единственное нормальное, с которого хорошо просматривалось все поле, и тогда я впервые увидел Марка Птицу Фидрича.[15] Его пышные кудри клубились под кепкой, как взбухший от влаги попкорн. Форменные штаны были заляпаны грязью, потому что перед каждой подачей он резко падал на колени, чтобы разгладить неровности на площадке и пошептаться с мешочком канифоли. Во рту он вместо табака жевал слова, когда радовался своим подачам. Всякий раз как он выбивал кого-нибудь с поля (что бывало не часто даже тогда), допотопная звуковая система стадиона разражалась гитарно-ударным треском и вся толпа – а в то краденое лето трибуны буквально ломились от зрителей – вскакивала на свои коллективные ноги и начинала притопывать и раскачиваться под песню «Птица серфинга».[16]
В первый уикенд после окончания учебного года я установил на зарешеченной сеткой веранде свой «стратоматиковский»[17] настольный бейсбол, вскрыл пачку свежеотпечатанных фотографий игроков предыдущего сезона и разыграл первую игру «Мэттибольного» сезона 1976 года – «Детройт-Кливленд», проходившую на похожем на пещеру муниципальном стадионе. Бен Ольиви заслал Джима Керна в край восьмерки и принес победу «Тиграм». Я без лишних эмоций упаковал эти две команды в коробку, проверил график, вытянул Балтимор и Милуоки и продолжил игру. В тот же вечер после ужина я вышел на улицу, захватив перчатку, рукавицу и мяч, и трижды разыграл маневр Ольиви. В нужный момент я снова и снова вставал на залысину на газоне, которая служила мне основной базой, и мысленно посылал мяч че рез наш красный штакетник во двор Кевина Дента. В последний раз я заметил Кевина и его приятеля Грэнджа: они пробирались к кустам, чтобы за мной подшпионить. Скорчив мину, я застопорил речевой поток спортивного комментатора, встал на залысину, подбросил мяч в воздух и еще раз изобразил пробежку Бена Ольиви по базам, благополучно вернувшись на основную.
Моя мать в свободное от домашних забот время ходила в спецшколу проводить тесты с детьми, страдающими аутизмом. Брент смотрел по телику программы «Трепачи» и «Верная цена», а после полудня забегал за Деном, нашим веснушчатым соседом, и они отправлялись на Сидровое озеро. Отец трудился в научно-исследовательской лаборатории компании «Дженерал Моторс» и, приходя с работы, играл с нами и с гостями Брента в «стикбол»,[18] а потом удалялся в гостиную чинить-паять свои динамики. Сколько я его помню, он все пытался выдавить из этого стерео хоть какой-нибудь звук. И вот в конце июня, собрав всю семью у себя в мастерской, он взмахнул рукой над черным ящиком, который у него назывался усилителем, и, пошевелив губами, как Марк Птица, на счет три нажал кнопку «вкл». Система разок рыгнула, пару секунд погудела и, взвизгнув, заглохла. Отец так просиял, будто ребенка родил.
Иногда я ходил на озеро, и там Брент и его дружки – все они были выше меня, хотя за ту весну я подрос почти на целый дюйм, – на какое-то время переставали обзывать меня хитрожопиком, чтобы я поучил их плавать баттерфляем и на спине. Вечерами по четвергам мы с Джо Уитни и Джоном Гоблином ходили в «Мини-Майкс», где изредка появлялась и Тереза – если ей не надо было идти на занятия по информатике. Байкеры тоже туда зачастили, и, хотя они с нами не разговаривали, иногда кто-нибудь из них убирал оранжевые стулья, расставленные вокруг трека, чтобы нам было лучше видно. Терезин «Пожиратель людей» был в «Мини-Майксе» самой быстрой машиной, но она так и не научилась нормально им управлять. Отец помог мне собрать собственный автомобиль – «Мустанг» цвета пушечной бронзы, который стрелой пролетал мимо крошечных пальмочек, придорожных магазинчиков «Харли» и динозавровых ям, тянувшихся вдоль треков «Мини-Майкса».
Помню четвертое июля на берегах Детройт-ривер – день, когда стране перевалило за вторую сотню лет. Я лежал на одеяле среди белотелых жителей окраин, толпы которых устремились в центр города посмотреть, на месте ли он еще. Такого скопления народу набережные не видели со времен бунтов. Перед самым фейерверком я перевернулся параллельно береговой линии и покатился по склону холма к воде, умудрившись никого не зашибить в этом круговороте лиц, небоскребов и облаков. Как только я выкатился на ровную землю, над головой засияла эмблема двухсотлетия, взметнулись огни и в воду с неба дождем посыпались красные, белые и синие угольки, которые еще долго и бешено вращались в воде под слоем нефти, нечистот и промышленных отходов.
Двадцать восьмого июля доктор Дорети повел нас с Терезой в новый комплекс «Понтиак-Сильвердом» поболеть за футбольную команду Джона Гоблина, которая заняла тогда первое место среди юниоров. Джон забил три гола. В перерыве мы жевали хот-доги и, глазея на кондиционеры, пытались понять, что напоминает нам этот фильтрованный воздух и потусторонний голубой свет. Насколько я помню, ответ был – ничего. «Сильвердом» – это единственное место из всех, где я бывал, которое ничего мне не напоминало. Возвращаясь на трибуны, мы заметили в нескольких рядах от нас Барбару Фокс с компанией друзей (потом я узнал, что у одного из них играл младший брат). Мы все замахали ей руками. До того момента я и не догадывался, что она знакома с Дорети.
После игры мы отправились в Оклендский парк на Сидровую мельницу, которая в тот год открылась раньше обычного. На вкус сидр был слишком сладкий. Доктор Дорети сказал, что в нем еще много лета, а кислым он будет не раньше, чем через месяц. Мы с Терезой забрели в колесный отсек рядом с главным зданием мельницы и, стоя на пешеходном мостике, протянувшемся через все помещение, вместе с другими детьми смотрели, как гигантское колесо крушит и давит яблоки внизу. Мы стояли там до тех пор, пока не показалась лопасть с вырезанным на ней сердцем, на котором Ричард и Грейс, единственные подростки, покусившиеся на эту достопримечательность, выгравировали свои имена. Никто из нас не мог понять, как им это удалось.
И все эти месяцы, при всей этой жаре среди нас ходил Снеговик. Он ездил на своем синем «гремлине» АМК по игровым площадкам и тупикам, кишащим детьми, и ничего не предпринимал. Просто ездил.
В последний уикенд перед началом учебного года, к исходу дня, когда солнце разбросало по крышам оранжево-красные блики, родители вдруг приоделись, запихали нас с Брентом в машину и покатили в Греческий город в центре Детройта. Запарковались мы в пяти кварталах от места, под одним из немногих работающих натриевых фонарей и пошли пешком по середине пустынной улицы мимо заброшенных отелей без окон и разбитых машин, на задних сиденьях которых мельтешили тени, словно обжимавшиеся подростки.
Вот почему Греческий город, когда мы до него добрались, произвел на нас впечатление грандиозного фейерверка. Откуда ни возьмись в ослепительном свете появились тысячи людей, повеяло вкусными запахами. Там были чернокожие и белые, родители и дети, управленцы и работяги, Особо Одаренные Малолетки (как называли нас в школе) и обычные малолетки, и все толкались, суетились, словно пытаясь пробиться друг к другу сквозь клубы дыма и крики «Опа!». И вдруг все байки о центре Детройта, которые я слышал с младых ногтей, стали всего лишь байками – частью тщательно разработанной тактики запугивания, чтобы робкие и слабые держались подальше, предоставляя последним из оставшихся в живых искателей приключений вечно веселиться на обломках Автомобильной Столицы.
– Хорошо, – вступает Лора, молчавшая почти два часа, пока я нес в трубку всю эту лабуду о Пусьмусе, о Марке Фидриче и о том долгом засушливом лете.
Сомневаюсь, что меня мог бы остановить сам ее голос, но в нем звучали обертона, которых я раньше не слышал, – это они заставили меня поморщиться, закрыть глаза и умолкнуть.
– Хорошо, Мэтти. Значит ли это, что ты нашел, что хотел? На свой день рождения, я имею в виду. Раз уж ты решил не вовлекать меня в торжества, то хотя бы удовлетвори мое любопытство. Поздравляю, кстати.