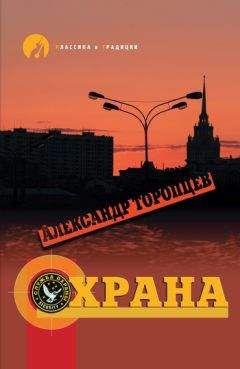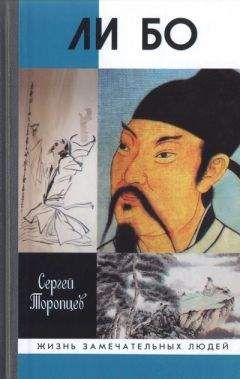Отстрелялся он, короче говоря, до капитана служил особистом в дивизионе РВСН, хотел в академию поступать, а тут перевод получил в столицу. Теща, коренная москвичка (а может быть, и родовитая, было такое подозрение у зятя еще до свадьбы) какими-то своими ходами сумела пробраться к нужному человеку в нужное время и поговорить с ним, начальником, по душам. Начальник строго сказал: «Он здесь в гору не пойдет». Она ему в ответ: «Москва и без того гора огромная. А мне внучке хочется дать человеческое образование. Что она в задрипанной эстонской глубинке узнает!»
Сергей Прошин получил перевод в Москву, поселился у тещи еще до перестройки. Началась она сразу же, не успел привыкнуть к соседям тещиной коммуналки в крупном доме на Чистых прудах. Перестройка поначалу взбодрила Сергея и других соотечественников, не почувствовавших фальши в разглагольствованиях видного комсомольского работника, ставшего вдруг у руля огромного корабля – Советского государства. Говорун заговорил всех. Ему верили. Сергей Прошин получил вовремя очередное звание и размечтался. В коммуналке освободилась еще одна комната, он занял ее. Теперь они жили с женой и дочкой в двух комнатах, а теща – в своей, как она говорила, родовой келье площадью в тридцать два с половиной метра с потолком в три пятьдесят семь.
К ним уже тогда, во второй половине 80-х годов, приставали те, кого вскоре обзовут новыми русскими. Обещали они их двум соседям и им с тещей столько квартир в новых микрорайонах да на таких условиях, что любой здравомыслящий человек, но не коренной москвич, призадумался бы. Сергея они обольстили слегка подержанным «Нисаном», большим, развалистым – куда там нашей «Волге», о которой он безнадежно мечтал.
Но тещу, жену и дочь обольстить они не могли никакими посулами и обещаниями.
«Это же Москва, центр. За Садовым кольцом для меня Москвы нет! И не будет. Я в этой комнате родилась, это мое родовое гнездо. Отсюда меня и увезете на кладбище, – сказала твердо теща после утомительно долгого общения с первым квартирным обольстителем и добавила с таинственной скупой улыбкой: – А если они будут, как вы сейчас сказали, доставать нас, я на них управу найду, будьте спокойны».
У нее действительно была какая-то управа, какие-то люди в верхах. Может быть, даже родственники. Но скорее всего хорошие знакомые. Сергей уже с надеждой мечтал о том, что однажды теща позвонит своим людям или встретится с ними, или они ей по случаю позвонят, или в гости к ней наведаются, и помогут они ему вырваться из майорского плотного круга. Время быстро шло, бежало, летело. Сергею должность нужна была позарез. Он не раз говорил об этом жене вечерами, ночами. Она не хотела говорить с матерью о проблемах мужа. Его это искренно удивляло. О причинах столь странного упрямства жены он думал долго и упорно. По сей день думал он об этом. Но так и не догадался, в чем же тут дело.
«Она сделала все, что могла, пойми, Сереженька», – говорила жена, он вздыхал, разводил руками, ходил на службу, старался казаться бодрым, деловитым, уверенным, но время бежало слишком быстро, и уверенности оно ему не прибавляло.
– Сергей, ты говоришь, Иван Ильич в Бутово химчистку открыл итальянскую? – спросил уже в третий раз Федор Бакулин. – Деловой мужик. Давненько у него был?
– В начале лета. У него день рождения в День защиты детей.
– И как он?
– Раскрутился. Три раза по телевизору показывали.
– А что! Всю жизнь в Москве. Связи есть. Да и сам он мужик не промах.
– Это точно. Уже пять минут одиннадцатого. Надо Николая будить.
Сергей набрал номер на селекторе, взял трубку.
– Иду! – услышал торопливый голос Касьминова и спросил Бакулина:
– Ты пойдешь чай пить? – и, не дожидаясь ответа, предложил: – Иди-иди. Я в час обедаю.
– Тебе же лучше сейчас.
Бакулину хотелось поскорее сесть в комнате отдыха за стол, взять телефон и звонить, звонить, звонить всем подряд. В записной книжке у него было много номеров: подполковники, полковники, три генерала, у них есть выходы на самых разных людей. Нужно звонить. Нужно поднять всех. Такую контору терять нельзя. А уж если и придется покидать это насиженное место, то только «по возрастающей». Начальником ЧОПа его никто не поставит, он это точно знал. Здесь все схвачено. Но хотя бы уж заместителем. Разве он не достоин? Разве не он поднял дисциплину во вверенном ему объекте на невиданную высоту?
– Иди-иди, я без пятнадцати час покушаю и выйду на пост. – Прошин знал, что Бакулин болтать будет до половины первого и все якобы по делам конторы. Придет на пост без двадцати пяти час, значит, у Сергея будет время пообедать не спеша и минут десять-пятнадцать отдохнуть (они менялись через час, и он всегда строго отслеживал свои шестьдесят минут).
– Ну как, малость соснул? – спросил он появившегося в холле Касьминова.
– Нормалек. О, уже пятнадцать минут! Что же ты раньше меня не буднул?
– Так я пошел? – засуетился, впрочем, зная себе цену, Бакулин.
– Иди-иди, Иваныч. Я потом. Николай, ты опять на улицу?
– Да. Оклемаюсь чуток.
– Ладно. Только дай я покурю сначала.
Сергей вышел на улицу. Почти полдень. Солнце. Сухо. Тишина.
Тишину разрушила машина у банка напротив поликлиники. Взвыла, заголосила, затренькала, запикала настырно сигнализация. Тишина ей нипочем. Визжит, орет благим матом машина, отстреливается от несуществующего противника-грабителя без передыху, и разносится звук тревожный и упрямый, настырный по переулкам, соседствующим с ровно гудящим за сталинскими зданиями проспектом.
Сергей давно уже не обращал внимания на эту визгливую деталь новой московской жизни. Его, человека крепкой нервной организации, вообще трудно было вывести из равновесия. Лишь в те дни, когда жена, намаявшись в онкологиях разных больниц, лежала совсем слабая дома, ожидая осени девяносто пятого года, середины сентября, когда ей обещали место у очень хорошего врача в Кремлевской больнице, эти автомобильные пищалки вконец измучили майора Прошина, ожидавшего к тому же повышения по службе. Утомительное это занятие ждать. Тем более ждать, не имея никаких надежд. Окна их комнаты выходили во двор, всегда ухоженный, уютный, почти беззвучный. Какие звуки от благовоспитанных стариков, воспитывающих своих внуков и правнуков! Выходили они во двор с темными томами и с внучатами, садились на скамейки вокруг детской площадки, читали что-нибудь очень классическое и наверняка негромкое, а их внуки также негромко возились с лопатками и ведерками в песке. «И по сердцу эта картина всем любящим русский народ» – частенько повторял Прошин еще в те годы, когда жена его была здоровой и задорно улыбающейся.
Ее болезнь и появление во дворе визгливых автомобилей почти совпали. А уж когда совсем разболелась жена, когда Сергей уже надежду стал терять, не выдавая грустных мыслей никому, а тем более теще, эти пищалки просто замучили его. Хоть домой не возвращайся: жену жалко, машины визжат, как поросята, теща по телефону звонит, звонит, умоляет всех знакомых и незнакомых помочь родной дочери, единственной и такой замечательной, а у него сердце ходуном ходит, сигареты летят одна за одной в баночку у мусоропровода на лестничной площадке. Нет, чего не было, того не было – к водке его и тогда не тянуло. Равнодушен он был к этому делу.
Поздним летом и ранней осенью девяносто пятого дни тянулись медленно, а машины визжали громко, а по телевизору смотреть было нечего, потому что дебаты политиков его не интересовали, а в кино ходить было не с кем – жена утомлялась все быстрее, ей хотелось много лежать, много молчать, гладить дочь, непоседливую, непослушную отличницу. Очень медленно тянулось куда-то время.
Десятого сентября того мрачного года положили жену в ЦКБ. И дни, и вечера, и ночи стали совсем уж грустные. Потому что врач прямо и честно сказал ему: «Поздно вы к нам обратились, поздно. Лет пять бы назад – дело бы пошло. А сейчас… Мы сделаем все возможное, я благодарен Нине Максимовне за то, что она сделала для меня во время войны. Жаль, что она не обратилась ко мне раньше». Такие хорошие слова сильного, доброго человека. Очень правильные слова.
Майор Прошин хотел сказать видному онкологу о том, как часто в последние пять лет теща называла его фамилию в телефонных разговорах, как настойчиво пыталась прорваться к нему. Не смогла. Слишком видный был онколог. Сергей не сказал врачу об этом. Прощаясь с ним, он не смог сказать и другое: «Я в долгу не останусь. Машину продам, а то и дом деда, и дачу. Я все продам. Только сделайте что-нибудь».
Не сказал он этих слов и на следующий день и через неделю. Не потому что робость в таких делах деревенского парня, ставшего майором, была тому виной. Здесь было другое, двойное. Сергей видел, какие люди разговаривают с видным онкологом, и понимал: если уж давать, то… давать-то ему нечего! Хоть трусы свои последние продай с носками впридачу – все одно мало будет. Да и поздно, поздно о распродаже думать. Давай, не давай – все бесполезно. Уходит поезд, уносит жизнь единственного существа, с которым жизнь казалась Сергею Прошину счастьем.