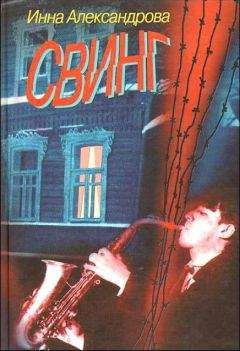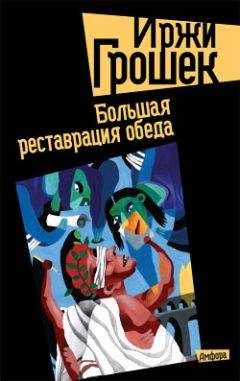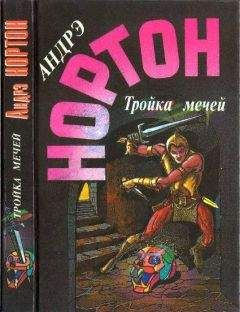Ознакомительная версия.
Иногда ходили на Кадетский плац — это теперь Краснокурсантская площадь. Там маршировали и пели красноармейцы. В погожие дни шли к Екатерининскому дворцу, где в девятнадцатом дед слушал Ленина.
Дед, наборщик, работал на фабрике «Красный пролетарий» Партиздата, а перед самой войной — во Второй типографии ОГИЗа. Тощий, с белой, как лунь, головой, он, видно, очень боялся, чтобы мать с отцом не съехали от него и вообще не умотали куда-нибудь за тридевять земель: они были геологами.
Отец с мамой учились на одном курсе, и старики сразу приняли невестку. Мама — высокая, стройная, сильная, с короткой стрижкой густых волнистых волос — была хороша собой. Она приехала в университет с Украины в двадцать седьмом году. Когда вспоминаю ее, думаю: такие женщины созданы для большой семьи, а она родила только меня. Ей впору было управляться с целым семейством, а она не растила даже меня — бесконечные командировки. Дед — мой изначальный воспитатель.
Трагедии предвоенных лет не коснулись нашей семьи только потому, что дед был беспартийный и, поняв обстановку, со всеми, кроме матери и отца, молчал. Отец, хоть и был коммунистом ленинского призыва, все время находился в геологических партиях — делах трудных и мужественных, куда всякая шваль и доносчики не очень-то лезли.
Я рассказывала тебе, как 22 июня сорок первого во время речи Молотова плакала, приговаривая: «Все равно разобьем этих проклятых фашистов», как дед и отец сразу пошли в военкомат, но там сказали: «Подождите». Деду — из-за возраста, отцу — из-за работы: в начале июня он был назначен начальником большого отдела в наркомате.
Бомбить Москву начали в конце июля. В наш дом вошли слова «оборонительные работы». В первой половине октября бои под Москвой стали очень тяжелыми, но нас уже не было. Дед, мать, я и отец уехали из города двадцать восьмого сентября. Уехали не по своей воле. Воля была чужая. Нас выслали, как ссылали когда-то за убийства, грабежи, инакомыслие…
Нас выслали, потому что в паспортах деда и отца в графе «национальность» стояло слово «немец».
В нашем с тобой «пятом пункте» написано «русские». Моя мать — твоя бабушка — русская. Русским был и твой отец. Но в паспортах моего отца и деда значилось «немец». В тот момент это было равносильно — фашист, убийца, предатель.
Мы с мамой могли не ехать. Но как жить, предав родных? Эшелон шел дни и ночи. Подолгу стояли на каких-то маленьких станциях. Куда едем — не знали.
Верно, были первые числа октября, когда, проснувшись, увидели большой вокзал, — конечно, не такой, как в Москве, но довольно приличный, первый снег и необозримую степь. Степи не было конца. Только с одной стороны она была загорожена вокзалом, три другие — смыкались с горизонтом.
Город, куда привезли, был бывшей станицей сибирских казаков: завод, три школы, больница, гидрогеологическая станция и городской совет. Северный Казахстан. Геологи искали здесь воду, бурили артезианские скважины.
Щиты плохо укрывали от холода. Теплых вещей было мало. Все тряпки — на мне. Дед и отец — в драповых пальто, мама — в короткой шубейке. Не могли они согреть, когда сутками на ветру. Деда не стало на десятый день. Наверно, воспаление легких: врачей ведь тоже не было.
Не было и работы. Собственно, она была. Шла война, и работы не могло не быть, но мать и отец были врагами, им нельзя было доверить геологию.
Жили мы теперь в клубе — бывшей церкви. Церковь деревянная, без икон, топились две печи. В больших чугунах — их на что-то выменяли — варилась на всех еда. Нас было человек тридцать: из Москвы и Подмосковья.
Маленькой я плохо сходилась с людьми, да и теперь не очень контактна, но капитан Григорьев покорил меня сразу. Высокий, стройный, он не входил, а врывался в нашу церковь, и с его приходом появлялась надежда. Он что-то выяснял, убегал «утрясать», снова появлялся, а однажды — это было дней через пять после смерти деда — повел нас в дом, бывшую почту, где вместе с Земанами нам дали комнату. Земанов было четверо: отец, мать и две девочки — Аля и Тома.
Григорьев дал не только жилье. Он дал работу: теперь отец и мама работали мастерами на гидрогеологической станции, Земан — в горторготделе, Земанша — в детских яслях.
Зиму сорок первого — сорок второго почти не помню: тоска по деду заслонила все. Просыпаясь ночами, долго плакала. Мама укрывала меня, целовала, обещала весной посадить на могиле деда такие же цветы, какие росли у нас в Москве, в палисаднике.
До войны я закончила два класса. Были похвальные листы, был заводной заяц, игравший на барабане, были книжки, купленные дедом на Арбате. Теперь кончался октябрь сорок первого и надо было начинать учиться.
Мы с Алей пошли в один класс — третий «б». Школа — приземистая, одноэтажная — была похожа на барак. Электричества не было, керосиновых ламп не хватало, потому в ход шли склянки из-под лекарств с узким горлышком. Вставив металлическую пробку с дырочкой, протаскивали марлевый фитилек. Он быстро высыхал, начинал чадить и гас. Наверно, каждые полчаса приходилось обмакивать его в керосин. Пузырек ставили на верхний, толстый край доски — доска была стоячая, и класс вылезал из мрака.
С Апькой, хоть и жили вместе, быстро разошлись. Она не любила читать, а я после уроков шла к Фире Ситдыковой — у них было много книг.
Родители вечерами теперь всегда были дома. Командировок не было. В их паспортах стоял штамп: выезд за пределы города запрещен.
Весной сорок второго на дедушкиной могиле посадили какую-то красивую травку — такой в Москве я не видела. Все лето ушло на уход за огородом. Дни были длинные, погожие.
Начало четвертого класса запомнилось приемом в пионеры. Капитана Григорьева не было, он уехал на фронт, а командовал теперь нами Трибух, который лез к маме. Трибух был против приема меня и Али в пионеры, и отец написал в Алма-Ату. Разрешение пришло быстро.
В белой кофточке, сшитой из простыни, в серой юбке, переделанной из дедушкиных брюк, стояла я в строю второй от начала — была рослой. Не знаю, где взяли эти настоящие сатиновые галстуки, но алели они словно маки. У Али был шелковый, Томкин, довоенный. Гремел барабан. Мы давали торжественное обещание.
Учиться любила всегда, но сорок второй — сорок четвертый больше запомнились госпиталем. Он был в бывшей трехэтажной школе, выстроенной перед самой войной. Госпиталь был немаленький — в каждой палате-классе человек по пятнадцать. В сорок четвертом нам с Алей доверили несложные перевязки.
Когда немцев отогнали от Москвы, отец первый раз написал Сталину. Научил его дядя Сеня Ракитин, который жил в городе с тридцать седьмого. Был выслан из Москвы из-за брата — «врага народа». Дядя Сеня объяснил, куда и как писать, как отправить письмо — бросить прямо в почтовый вагон.
В письме отец говорил, что воюем мы не с немецкой нацией — нация не может быть плохой или хорошей. Немецкая нация дала Гете и Шиллера, Гейне и Бетховена. Воюем мы с фашизмом, который исчервоточил, разъел эту нацию. Он же, Герман Рейсгоф, не фашист, хотя в паспорте его стоит «немец». Никакой другой власти, кроме Советской, не знает и считает позорным и несправедливым уравнение его с фашистами, а потому просит одного — отправить на фронт.
Отец писал Сталину потом еще несколько раз. Ответа не получил ни одного.
В сорок пятом, после войны, родителям разрешили ездить в пределах области — город стал областным центром. Отца теперь не видели неделями, маме тоже случалось по два-три дня не быть дома. А жили в то время в доме около гидростанции, в комнатке с большой плитой, тепло от которой шло только тогда, когда она топилась. Кочегарила я, и однажды случилось несчастье. Не посмотрев как следует, что в духовке, затопила и побежала к Але за задачником. Меня не было, наверно, минут двадцать, но когда подбегала к дому, густой черный дым валил из форточки: Муська, Мусенька, моя красавица-кошка была мертва…
Мама должна была приехать на следующий день. Что делали соседи в нашей комнате, не помню: ревела до изнеможения. Но люди, люди тогда и правда по-человечески друг к другу относились. Взять хотя бы дядю Сеню. Маленький, худенький, одни очки на лице. Работал чертежником на гидростанции, а был дипломированным инженером, имел патенты на изобретения. Знал в городе всех и все. Помню, как мама приговаривала: что бы мы, Сеня, без вас делали… От дружбы с нами не имел никакой корысти. А когда появилась тетя Лина, изящная, тонкая, со слегка склоненной набок головой — оттягивал тяжелый узел волос, они стали приходить с гитарой. Тетя Лина пела тихо и протяжно. В пятьдесят четвертом, когда дело дяди Сени было пересмотрено военным трибуналом Московского военного округа и за отсутствием состава преступления производством прекращено, когда выдавали ему новый чистый паспорт, молодой сотрудник спросил его: «Семен Ильич, так за что же Вы отбывали семнадцать лет ссылку?» Дядя Сеня затрясся в истерике.
Ознакомительная версия.