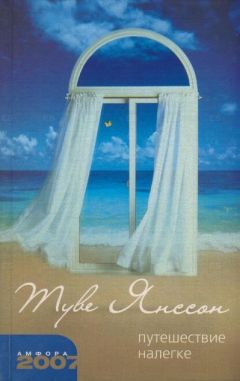Домик — серый, и небо, и море тоже серые, и луг — серый от росы. Время — четыре часа утра, и я выиграла целых три часа, которые очень важны и на которые рассчитываешь. А может, три с половиной.
Я научилась узнавать время, читать на часах, хотя читать минуты еще не умею.
Я тоже светло-серая, правда изнутри, потому что я в полной нерешительности плыву, как медуза, и ни о чем не думаю, а только чувствую. Если проплыть на лодке сотню миль[11] по морю и пройти сотню миль по лесу, все равно не найдешь ни одной маленькой девочки. Их там нет, я слышала об этом. Можно ждать тысячу лет, а их все нет и нет. Та, что больше похожа на девочку, — это Фанни, которой семнадцать лет и которая собирает камни, и ракушки, и дохлых животных, и поет, перед тем как пойдет дождь. Она желто-серая, того же самого цвета, что и холм, и лицо, и руки — все у нее желто-серое и сморщенное, но волосы ее белые, а глаза — бело-голубые и смотрят мимо тебя.
Фанни — единственная, кто не боится лошадей. Она кричит и поворачивается к ним спиной, она делает все, что хочет. Если кто-нибудь просит ее помыть посуду не по-доброму, она уходит в лес, остается там много дней и ночей и поет, пока не накличет дождь.
Она никогда не бывает одна.
Есть пять заливов, где никто не живет. Если обойти кругом первый, то придется обойти и остальные. Первый — широкий и битком набит белым песком. Там есть пещера с песчаным дном. Стены ее всегда мокрые, а в потолке трещина. Пещера длиннее, чем я, когда лежу на спине, а сегодня она холодна как лед. В самой глубине пещеры узенькая черная норка.
И вот мой таинственный друг вылезает из этой норки.
Я сказала:
— Какое прекрасное, какое очаровательное утро!
А он ответил:
— Это утро не обычное, потому что я слышу, как кто-то бормочет за горизонтом!
Он сидел за моей спиной, и я знала, что шкурка его полиняла и он не хочет, чтоб на него смотрели. И я совершенно равнодушно сказала:
— В пятницу тоже бормотали. Ты видел Фанни?
— Перед сумерками она сидела на рябиновом дереве, — ответил он.
Но я знала, что Фанни неохотно лазает на деревья и что мой друг пытается лишь произвести на меня впечатление. Так что я ничего не сказала, пусть остается при своем… Приятно быть в обществе. Когда он заметил, что я не желаю разговаривать, он немножко поиграл мне. В пещере стоял ледяной холод, и я решила уйти, как только он кончит играть. Так что после последней ноты я сказала:
— Это был приятный визит. Но мне кажется, пора, к сожалению, прервать его. Как дела дома?
— Очень хорошо, — ответил он. — Моя жена родила пятерых детишек. Все — девочки.
Поздравив его, я пошла дальше.
Когда солнце встает, вода в первом заливе покоится в тени лесных деревьев, а у самого притока скалы — красные. Тростник светится только по вечерам. Ты идешь, идешь и идешь, и вдруг начинает дуть утренний ветер. Другой залив, тот, что весь зарос и буквально набит тростником, шелестит, когда над ним проносится ветер. Ветер шумит, что-то шепчет и медленно, мягко-мягко свистит, и ты входишь прямо в заросли тростника, и тебя осыпают ласками со всех сторон, а ты идешь и идешь и вообще ни о чем не думаешь. Тростник — это джунгли, которые тянутся до самого края земли. Над всей землей ровно ничего нет, кроме шепчущего тростника, и все люди вымерли, а ты — единственная, кто есть на свете, и только все идешь и идешь в зарослях тростника.
Я иду так долго, что становлюсь длинной и тонкой, как травинка, а волосы мои превращаются в мягкую метелку какого-то растения, и в конце концов я пускаю корни и начинаю шуршать, и шелестеть, и шуметь, как все мои сестры-тростинки, и время никогда не кончается.
Но в глубине залива засел громадный лоцман, и он говорит:
— Хо-хо! Хо-хо! Думаю, подул западный ветер. У лоцмана рыжие усы Чельгрена и голубые глаза Шёблума[12], на нем лоцманская форма, и наконец-то он замечает меня.
Задрожав от радости, я отвечаю:
— Я бы сказала, девять beaufort[13], если не больше. Нельзя ли выпить стаканчик?
— Ну да ладно, раз уж приходится растрачивать здесь свою водку, — отвечает он и протягивает мне свой стакан.
Я наливаю водки и пять раз выпиваю по стакану.
— Ну а что ты думаешь о сиге зобатом? — продолжает он.
— Он поднимется наверх, — говорю я. — Если этот ветер удержится…
Он задумчиво и оценивающе кивает.
— Да-да, — говорит он. — Да-да. Это, вероятно, так и будет.
Мы выпиваем шесть литров самогона и два ведра кофе, что пьют в день летнего солнцестояния, после чего я говорю:
— Думаю, худо нынче проводить суда среди шхер.
— Может быть, может быть, — отвечает он.
А потом я уже не могу его дольше задерживать.
Печально, когда видения становятся туманными, расплывчатыми и исчезают. Рассказываешь о них или нет, они все равно исчезают. Продолжать говорить тогда не стоит, потому что это становится просто смешно и чувствуешь себя одинокой.
Но вот появляется третий залив.
Именно там мы с папой и нашли наши первые бидоны. Это был великий день, который никто из нас не забудет до самого конца своей жизни.
Папа сразу увидел, что это такое. Он весь одеревенел, и у него вытянулась шея. Он влез на камни и начал вытаскивать мешок. Мешок был старый и прогнивший, но внутри звенели бидоны, и папа спросил:
— Слышишь? Слышишь этот звук?!
Мы нашли четыре бидона с девяносто шестью десятыми литра в каждом. О папа, папа!
И как раз тогда и прибежало семейство Хэрбергов и столпилось возле мыса. Мы распластались за камнями, совсем близко друг к другу. Я держала папу за руку. Хэрберги тащили каждый свой перемет и ровно ничего не замечали. Папа и я стояли на страже до тех пор, пока опасность не миновала, и тогда мы спрятали все бидоны в тростнике.
Я всегда сижу тихо-тихо в третьем заливе, чтобы почтить там нашу с папой встречу и нашу великую тайну.
Солнце поднялось выше и приняло свой обычный вид. Становится все труднее найти какое-нибудь общество, люди бывают здесь лишь ранним утром и в сумерках. Но это все равно. Вместо общения я могу дремать и вспоминать о том, что было.
Я вспоминаю, как мы с папой шли по лесу со штормовым фонарем в руках, чтобы забрать домой корзины с грибами.
Днем вся наша семья собирала грибы. Папа повел нас к настоящим прогалинам, к своим грибным местам, где росли целые колонии грибов. Сам он их не собирал, он только зажег трубку и сделал жест рукой, означавший: «Пожалуйста, все мое семейство, вот вам прекрасная снедь».
Мы собирали и собирали грибы без конца. И не как попало. Грибы были важны для нас, важны почти так же, как рыба. Они означали сотню завтраков в течение всей зимы. Под каждым грибом таинственные грибницы — мицелии, и грибное место надо сохранять во веки вечные и для грядущих поколений, и это наш гражданский долг — добывать еду для своей семьи летом и уделять внимание природе.
Ночью бывает иначе. Мы с папой несем домой те корзины, которые не смогли унести днем. Тогда должно быть темно. Нам не нужно экономить керосин, мы просто швыряемся деньгами. И папа всегда находит дорогу. Иногда дует ветер и деревья скрипят друг на друга, издавая ужасающие звуки. Папа находит дорогу. Корзины с грибами стоят там, где их оставили, и он говорит:
— Черт побери! Смотри, там они и стоят!
Самые красивые грибы лежат сверху. Папа подбирает их по цвету и форме, потому что грибы — это его букеты. Такие же букеты он составляет из рыбы.
Однажды папа поставил свою корзину с грибами на вершине холма и пошел за своим семейством. А корова Роза тем временем все съела. Она знала, что на папу можно положиться и что ни одного ядовитого гриба в его корзине нет.
Теперь ветер дует все время. Четвертый залив — далеко-далеко. Я иду через лес, нарисованный Ионом Бауэром[14]. Он умел рисовать лес, а с тех пор как художник утонул, никто больше не осмеливался его рисовать. А тех, кто осмеливается, мы с мамой презираем.
Чтобы лес стал на рисунке достаточно большим, нельзя рисовать верхушки деревьев без всякого неба. Надо рисовать одни лишь прямые, очень толстые стволы, которые поднимаются ввысь. Земля — это мягкие холмы, что уходят все дальше и дальше и становятся все меньше и меньше, пока лес не покажется бесконечным. Камни тоже есть, но их не видно. Тысячу лет зарастали они мхом, и никто не потревожил его.
Если ступишь ногой в мох один раз, то образуется глубокая дыра, которая не исчезает целую неделю. Если ступишь туда еще раз, твоя дыра останется навечно. Если в третий раз ступишь в мох, это смерть.
В правильно нарисованном лесу все примерно одного и того же цвета — мох, стволы деревьев и ветки елей, все — какое-то мягкое и серьезное, а иногда в лесной чаще мелькает посредине что-то серое, и бурое, и зеленое, но зелени очень мало. Если хочешь, сажаешь, например, в лес принцессу. Она всегда в белом и очень маленькая, и у нее длинные золотистые волосы. Ее лучше поместить в самом сердце лесной чащи или в золотом сечении. Когда Ион Бауэр умер, принцессы стали современными и любого цвета, какого только захочешь. Они стали просто обыкновенными, пышно разодетыми девочками.