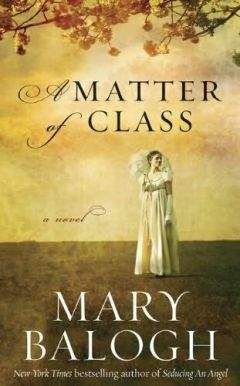Таковы были две его фотографические иконы — ребенок по имени Майкл и семейный портрет. Базз подарил ему еще одну фотографию — они с Аннабель спят в постели, и она стала третьей: образ любовника. Ли и Аннабель выглядели на ней как Дафнис и Хлоя или Поль и Виргиния; Ли, опутанный ее длинными волосами, лежал в изгибе ее обнаженного плеча, потому что был ниже ее ростом, и они смотрелись так красиво и мирно, точно самими небесами были предназначены друг другу. Ли хранил эти фотографии в конверте вместе с тремя свидетельствами о рождении; потом к ним добавилось свидетельство о браке.
Но причинно-следственной связи между этими тремя лицами на снимках обнаружить он не мог. Дитя, ребенок и подросток или молодой человек, чье лицо оставалось таким новым, неиспользованным и незавершенным, казалось, олицетворяли три конечных и не связанных друг с другом состояния. Глядя в зеркало, он видел лицо, не имеющее ничего общего с теми тремя; его черты уже были отфильтрованы глазами жены и настолько видоизменились, что перестали быть его собственными. Казалось, никакая логика не связывает разные этапы его жизни, будто каждый достигался независимо, не органическим ростом, а конвульсивными прыжками из одного состояния в другое. По невинности, которую Ли находил в прежних, отброшенных за ненадобностью лицах, он не испытывал никакой ностальгии — только яростное негодование: надо ж было ему быть невинным настолько, чтобы отказаться от своей свободы. Ибо теперь пустая комната, в которой он существовал так же аскетично, как Робинзон Крузо на своем острове, и только Базз служил ему хмурым и неверным Пятницей, — теперь эта комната задыхалась от вещей, покрылась темными слоистыми красками и наполнилась таким густым угрюмым мраком, что, переступая порог, приходилось набирать в грудь побольше воздуха, точно собираясь нырнуть в другой воздух, более плотный.
В этой таинственной пещере Ли крепко прижимал к себе Аннабель — он знал, что двуличие расцветает от физического контакта. Здесь, где она со своей мебелью тонула в едином сне, у Аннабель по крайней мере оставались форма и какие-то внешние контуры; она была такой же вещью, как диван или буфет с львиными головами. Здесь она была объектом, состоящим из непроницаемых поверхностей. Когда она шла с ним рядом по улице в своей наугад подобранной одежде, тощая и чахлая, то напоминала призрак тряпичницы. Она была высокой и очень худой, руки длинные, и вены на них выступали толстыми пучками, будто на веснушчатых руках старух. Все ноги тоже были оплетены выпуклыми вспухшими венами. Из-за худосочности своей она казалась гораздо выше, чем на самом деле, — карикатурно элегантная, изнуренная девушка с узким лицом и волосами настолько прямыми, что они беспомощно ниспадали безмолвной данью силе земного притяжения. У нее на ногах были очень цепкие пальцы — она могла ими подхватить карандаш и уверенно расписаться. Она воровала.
Ли пришел в ужас, узнав, что она ворует. Из супермаркетов она воровала продукты, а из книжных магазинов — книги; крала краски, тушь, кисти и маленькие предметы одежды. Ее родители были людьми состоятельными, платили ей большое содержание, но она воровала все равно, а Ли всегда расценивал воровство как дело, законное только для бедных. Он считал, что красть как можно больше — для них морально оправдано, а поскольку деньги даются людям только затем, чтобы покупать вещи и не давать колесу экономики останавливаться, то долг богатых (ступицы этого колеса) — как можно больше приобретать. Тем не менее Аннабель продолжала красть, несмотря на его суровое неодобрение, и эта склонность среди многого прочего роднила ее с деверем.
Они поженились, когда ее родители узнали о том, что они с Ли живут вместе. Ли сдал выпускные экзамены, защитил посредственный диплом и на университетском педагогическом факультете записался на курсы подготовки учителей. Брат воспринял его действия с брюзгливым презрением, однако Ли был вынужден содержать своих домашних, которые не могли или не хотели делать этого сами. Аннабель поставила родителей в известность, что у нее изменился адрес, но никаких дальнейших подробностей не сообщила, и они сделали вывод, что она просто поселилась в квартире с другой девушкой. Время от времени она их навещала, а под конец лета, заехав в город по пути в Корнуолл, они ранним утром просто позвонили в дверь.
Базз уже проснулся и работал в фотолаборатории, которую состряпал у себя в комнате. День был теплый, и на Баззе не было ничего, кроме грязных белых моряцких штанов, там и тут прожженных кислотой. Его волосы апача или могавка падали ниже плеч, и от него смердело благовониями и химикатами. Он открыл дверь и увидел мужчину и женщину в повседневной дорогой одежде — они пахли мылом и деньгами, а эти запахи были ему чужды. Исключительно из своенравия он провел их в комнату Ли через свою собственную, мимо стен, заклеенных снимками их единственной дочери, часто раздетой, часто — в объятиях мужчины, но им удалось сохранить невозмутимость, хотя комната Базза была вся набита его фетишами: ножами, расчлененными двигателями со свалки и ванночками с химикатами. Кроме того, он забил все окна, чтобы не пропускали свет. Если комната Ли была чистым листом бумаги, берлога Базза напоминала исчерканный каракулями блокнот, но масса предметов, скопившихся в ней, была по природе своей настолько случайна и валялись они в таком беспорядке — там, куда он позволил им упасть, — что понять, кто же в этой комнате обитает, было ничуть не легче.
Впрочем, и комната Ли уже не была такой девственной, как раньше. Все стены захватила чащоба — деревья, цветы, птицы и звери, — и Ли с Аннабель лежали посреди на узеньком матрасе, точно любовники в джунглях. Она уже купила красный плюшевый диван, круглый стол и чучело лисы в стеклянном ящике, поэтому общее впечатление — перехода из одного крайнего состояния к его полной противоположности — было бы особенно тревожным, если б родители Аннабель хотели увидеть что-то еще, а не только собственную дочь и какого-то сына садовника под сбившимися из-за жары в сторону простынями, спящих.
— Просыпайся, — сказал Базз. — Это ее предки.
Аннабель вздрогнула, но не проснулась. Ли же продрал заштукатуренные сном глаза и в полной мере отдал слезную дань великолепию утра. Увидев, что на него сверху вниз смотрит мужчина в темном костюме, он решил, что произошло худшее и к ним в поисках гашиша или присвоенной собственности нагрянул полицейский шпик. Ли перевернулся и вытянул к нему запястья.
— Отпираться бесполезно, — сказал он.
Аннабель они немедленно забрали с собой, а братья остались предаваться мрачным раздумьям в комнате, без нее казавшейся незавершенной, — оба знали, что до ее возвращения им в этой комнате будет не по себе. Без ее присутствия они сами себе казались недоделанными; сознательно того не желая, она — каким-то осмосом, наверное, поскольку была такой бестелесной, — как-то проникла в их кольцо самодостаточности. Стоило ее родителям выяснить, что Ли закончил университет, несмотря на неподобающую внешность, они решили, что он, должно быть, неограненный алмаз, и слегка пошли на примирение, однако по-прежнему отказывали ему во встречах с нею, пока он на ней не женится, что он в конечном итоге и согласился сделать — из гордости. Ее матери хотелось свадебной церемонии в церкви и чтобы невеста была в белом.
— Тетка в гробу перевернется, — сказал Ли.
Наконец договорились: церемония пройдет в бюро записей актов гражданского состояния того района, где жили братья. Назначили дату, получили разрешение. Все это время Аннабель жила у родителей в пригороде Лондона, а братья — у себя. Едва осознав, что собирается сделать нечто необратимое, Ли ушел в запой — он не пережил бы своей свадьбы, дожидаясь ее в сознательном состоянии. Он никогда толком не понимал Аннабель и уже знал, что у нее не все в порядке с головой; однако пуританское воспитание требовало, чтобы он публично взял на себя ответственность за нее. Его раздирали противоречивые предчувствия.
Однажды январским утром Аннабель проснулась и увидела, что ночью шел снег, поэтому теперь не осталось явной разницы между миром снаружи и миром внутри. Снег толстым слоем лежал на чугунных завитушках балкона и облепил нагие ветви деревьев на площади; но серое небо по-прежнему полнилось мягким вихрем хлопьев, и все звуки доносились глухо, будто сквозь мягкие снежные беруши. Комнату заливал белый свет, отражавшийся с улицы, и разница заключалась лишь в том, что внутри снег не шел, а все остальное было таким же белым, как на крайнем, невообразимом Севере, если не считать красного эмалированного будильника, и тот уже трещал. Ли, толком не просыпаясь, выбросил руку и придавил кнопку; Аннабель доставляло профессиональное удовольствие наблюдать за мускулатурой его предплечья и за тем, как снежный свет играет на покрывающих его золотых волосках, — Ли был весьма мохнат. Колоритное зрелище, к тому же он напоминал ей ню Каковы — героическую статую Наполеона в Веллингтон-Хаусе. Аннабель была благодарна ему за тепло. Она наблюдала за его каждодневной борьбой с не желавшими разлипаться веками, а потом он улыбался, узнав ее, обнимал, целовал в щеку и принимался шарить по белому полу, нащупывая сброшенную накануне одежду. Аннабель особенно радовалась, если удавалось уловить его благородный левый профиль. Ей было неизменно интересно смотреть на него, но едва ли приходило в голову, что Ли — не только сочетание раскрашенных поверхностей, да и вообще она так и не научилась считать себя живой актрисой. О себе она даже не думала как о теле — скорее, как о паре бестелесных глаз; это когда она вообще о себе задумывалась. Ей было восемнадцать — скрытная и замкнутая с самого детства. Любимым художником у нее был Макс Эрнст. Книг она не читала. Ли приготовил ей завтрак и развел большой огонь в камине.