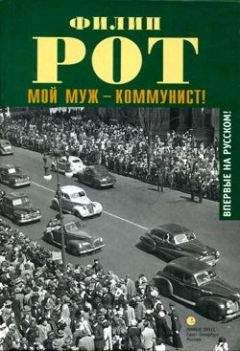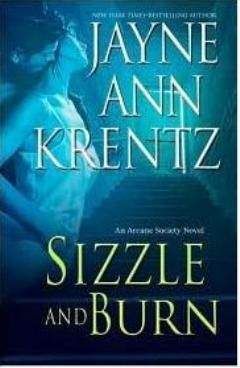Что-то, коренящееся глубже, нежели просто вежливость (амбиции? желание, чтобы восхитились моей высокой убежденностью?), побудило меня перебороть смущение и рассказать ему – то есть всей воплощаемой им троице: во-первых, его персонажу – патриоту-мученику Аврааму Линкольну, во-вторых, отважному рыцарю радиоволн Железному Рину и, в-третьих, когда-то знаменитому на весь Первый околоток Ньюарка, но потом исправившемуся хулигану Айре Рингольду, – что это именно я был заводилой тех ребят, что устроили улюлюканье.
Мистер Рингольд, мокрый от пота, в одних защитного цвета штанах и мокасинах спустился из своей квартиры на втором этаже в подъезд дома. Сразу за ним спустилась его жена; прежде чем вновь уйти к себе наверх, она выставила на кирпичное крыльцо поднос с графином охлажденной воды и тремя стаканами. Вот так и вышло – до одури жарким осенним днем в четыре пополудни 12 октября 1948 года начался самый удивительный вечер за всю мою юность; я завалил велосипед набок и сел у своего учителя на крылечке рядом с мужем Эвы Фрейм Железным Рином из «Свободных и смелых», и мы запросто болтали о Всемирной серии, за время которой Боб Феллер – невероятно! – профукал два гейма, а Ларри Доуби, первый за всю историю Американской лиги чернокожий игрок, которым мы все восхищались (хотя и не так, конечно, как Джеки Робинсоном), взял семь из двадцати двух.
Потом говорили о боксе: как Джо Луис нокаутировал Джерси Джо Уолкотга, хотя Уолкотт его здорово опережал по очкам; как прямо здесь, у нас в Ньюарке, в июне Тони Зейл вновь отобрал титул чемпиона в среднем весе у Роки Грациано, сокрушив его ударом левой, а потом проиграл французишке Марселю Сердану – но это уже там, в Джерси-Сити, пару недель назад, в сентябре… Потом, с минуту поговорив со мной о Тони Зейле, Железный Рин переключился на Уинстона Черчилля и речь, произнесенную им несколько дней назад, от которой Железного Рина до сих пор трясло: в ней британский премьер советовал Соединенным Штатам не уничтожать свой запас атомных бомб, потому что атомная бомба – это, дескать, единственное, что удерживает Советский Союз от того, чтобы поработить весь мир. Он говорил об Уинстоне Черчилле так же, как о Марселе Сердане или Лео Дьюрочере. Величал Черчилля реакционным ублюдком и поджигателем войны с той же неколебимой уверенностью, как Дьюрочера обзывал болтуном, а Сердана – болваном. Рассуждал о Черчилле так, словно тот заведовал бензозаправкой на Лайонс-авеню. Мои родители говорили о Черчилле в несколько другом тоне. Так говорить у нас было принято, скорее, о Гитлере. Как и его брат, в своих речах Айра не соблюдал тех невидимых рамок, что определяются общепринятыми табу. Все у него мешалось в одну кашу: спорт, политика, литература, обо всем судил дерзко и задиристо, привлекал себе на помощь неизвестно откуда взявшиеся цитаты и тут же продолжал спор с позиции отвлеченной морали и высоких идеалов… Что-то в этом было поразительно захватывающее и бодрящее, перед тобой раскрывался некий новый, опасный мир – требовательный, прямодушный, напористый, свободный от пустопорожней вежливости. И свободный от школы. Железный Рин был не просто радиозвездой. Это был человек извне, не имеющий отношения к пространству классной комнаты и не боящийся говорить что вздумается.
А я как раз только что прочитал про такого – про Тома Пейна, человека, который не боялся говорить что вздумается, и книга о нем, исторический роман Говарда Фаста «Гражданин Том Пейн», как раз лежала среди других в багажной корзинке моего велосипеда – я вез ее возвращать в библиотеку. Пока Айра разоблачал передо мною Черчилля, мистер Рингольд подошел к книжкам, которые, выпав из корзины, рассыпались у крыльца по мостовой, и оглядывал их корешки. Половина книжек была про бейсбол, все одного автора – Джона Р. Тьюниса, а другая половина – по истории Америки, эти все Говарда Фаста. Мои политические взгляды (как и вообще мое представление о человечестве) развивались по двум параллельным линиям – одна нарисовалась под влиянием книжек о чемпионах бейсбола, которым трудно давались победы, и они прокладывали к ним дорогу вопреки напастям, унижениям и неудачам, а другую прочертили романы о героях-американцах, которые боролись против тирании и несправедливости, воюя за свободу для Америки и всего человечества. Героизм и страдание. Я на этом собаку съел. «Гражданин Том Пейн» был не столько романом в общепринятом смысле, замешанным на интриге, сюжете и т. д., а, скорее, нагромождением условно между собою сцепленных помпезных сцен и высказываний, призванных удостоверить тот факт, что трудно быть серым мужланом, если у тебя голова все-таки что-то варит, а в груди сердце, полное высочайших социальных идеалов, – ну, то есть трудно быть одновременно и писателем, и революционером. «Никто в мире не вызывал к себе такую ненависть, но и такую любовь, если уж находились те, кто любил его». «Это был ум, который сжег себя так, как немногие в истории человечества». «На своей шкуре он чувствовал плеть, которой прошлись по спине народной массы». «Уже тогда его мысли были куда ближе к чаяниям простого рабочего, чем когда-либо могли сделаться идеи Джефферсона». Таким Фаст изображал Пейна – свирепым маньяком раз и навсегда избранной цели, до смешного воинственным нелюдимым брюзгой, то есть фигурой эпической и чуть ли не фольклорной: оборванный, грязный, в нищенском рубище, этот ожесточенный, все поливающий сарказмом человек с мушкетом одиноко слонялся, согласно Фасту, по раздираемым беззаконием улицам воюющей Филадельфии, время от времени напиваясь и то и дело посещая бордели, а по пятам за ним следовали наемные убийцы. Друзей у него не было, все делал сам. «Моя единственная подруга – революция!» Ко времени, когда я дочитал эту книгу, у меня уже не было сомнения, что другой дороги, кроме дороги Пейна, для мужчины нет – так надо жить и так умирать, если негасимое чувство свободы в тебе требует добиваться переустройства общества, не давая спуску ни порфироносным правителям, ни грубой толпе.
Он все делал сам, один. Ничто в Пейне не привлекало так, как это, при том что Фаст довольно равнодушно обрисовывал эту его изоляцию, порожденную как вызывающим стремлением к независимости, так и бедами в личной жизни. Что ж, Пейн и последние свои дни провел так же – один, сам по себе, сделавшись старым, больным и нищим изгоем; одинокого и всеми брошенного, более всего его ненавидели за последнее из им написанного – за его духовное завещание «Век разума»: «Я не доверяю ни доктрине, которую проповедует религия евреев, ни символу веры Римской католической церкви, ни православным догматам; не верю я ни туркам, ни протестантам и ни одной известной мне церкви». Читая про него, я чувствовал, как становлюсь дерзким и злым, а главное, свободным, готовым драться за свои убеждения.
Книга «Гражданин Том Пейн» как раз и оказалась в руках мистера Рингольда, именно ее он извлек из опрокинутой велосипедной корзинки и принес туда, где мы сидели.
– Читал? – кивнув на нее, спросил он брата.
Железный Рин взял мою библиотечную книжку в огромные эйб-линкольновские ладони и начал перелистывать страницы.
– Н-нет. Никогда не читал Фаста, – проговорил он. – А надо бы. Удивительный человек. Большого мужества. С самого начала был Уоллесом. Когда читаю «Уоркер», каждый раз проглядываю его колонку, но для романов у меня уже времени нет. Когда служил в Иране, бывало, почитывал – Стейнбека, Эптона Синклера, Джека Лондона, Колдуэлла…
– Если соберешься почитать Фаста, именно эту книгу и бери, здесь он в зените, – сказал мистер Рингольд. – Верно я говорю, Натан?
– Потрясающая книга, – отозвался я.
– А ты читал когда-нибудь «Здравый смысл»? – спросил меня Железный Рин. – Самого-то Пейна книги читал?
– Нет, – ответил я.
– Так прочитай, – распорядился Железный Рин, все еще листая страницы моей книги.
– Говард Фаст там много цитат из Пейна приводит, – сказал я.
Подняв взгляд Железный Рин произнес: «Сила народной массы в революции, но, как ни странно, несколько тысяч лет человечество терпело рабство, не сознавая этого».
– Там, в книге, это есть, – сказал я.
– Еще бы! Как же без этого.
– А знаешь, в чем была гениальность Пейна? – спросил меня мистер Рингольд. – Общая, кстати, для всех этих людей. Для Джефферсона. Для Мэдисона. Знаешь в чем?
– Нет, – сказал я.
– Да знаешь ты, знаешь, – настаивал он.
– В том, что они не боялись англичан?
– Да ведь многие не боялись. Нет. В том, как они выражали, как формулировали суть общего дела по-английски. Революция была совершенно спонтанной, абсолютно неорганизованной. Разве не такое ощущение остается после этой книги, а, Натан? Ну и вот, этим парням пришлось отыскивать для революции язык. Находить слова для обозначения великой цели.
– Пейн, – сказал я мистеру Рингольду, – говорил: «Я написал эту маленькую книжицу, потому что хочу, чтобы люди знали, во что они стреляют».