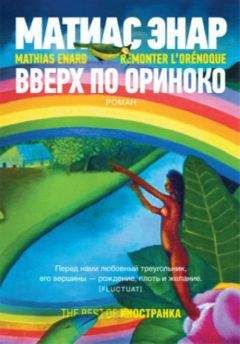Появление рядом, у поручня, мужской фигуры отвлекло ее от созерцания. Помощник капитана молчал, может быть, ожидая, что она заговорит с ним, он тоже смотрел на город, расположившись возле нее, и она чуть-чуть отодвинулась. Молчание становилось неловким, и он спросил, не нужно ли ей чего, все ли в порядке, она ответила, спасибо, все хорошо. Мужчина еще несколько минут постоял возле неё, потом простился и отправился к другим пассажирам.
Болтать ей совсем не хотелось, хотелось спуститься к себе в каюту и в одиночестве наслаждаться тем, что пароход наконец плывет, — она никогда не умела сидеть смирно, ты никогда смирно не посидишь, говорила ей мама, и так оно и есть, смотри, мамочка, я плыву на грузопассажирском пароходе, убогом, конечно, но плыву вверх по Ориноко, с бухты-барахты, так бы ты сказала, все у тебя с бухты-барахты, приезд, отъезд, и любовь тоже; но если я уехала, значит, пришло время для отъезда, значит, что-то сломалось и освободило меня, и я не стану перечислять тебе сейчас причины, положительные, отрицательные, из-за которых оказалась здесь и смотрю, как течет река, удаляется порт; не буду говорить о надеждах, которые возлагаю на это путешествие, о том, что надеюсь увидеть, повстречать, почувствовать, что надеюсь открыть для себя, пусть издалека, например, предрассветный легкий туман на реке, который мгновенно рассеивается, волшебную пестроту птиц среди листвы, за которыми буду охотиться взглядом, приязнь к обезьянам, муравьедам, рысям, их я, конечно, не увижу, но почувствую их близость, после того как мы минуем саванну, бескрайнюю саванну, где я отдохну душой, ты же знаешь, как я устала, я тебе уже говорила, что устала, так вот саванна, в которой нечем любоваться, вместе со спокойным мощным течением реки вернет мне равновесие, подготовит к встрече с лесами и призраками. И я, умиротворенная, сумею воспользоваться тем, что сулят мне края, которые называют дикими, девственными и опасными.
Когда стало совсем темно, когда созвездие города почти исчезло, а небесные созвездия так и не появились, затаившись за тучами, она, несмотря на веселое оживление на верхней палубе, где пассажиры болтали и ужинали, спустилась к себе в каюту, с удовольствием открыла иллюминатор, услышала, как мягко толкается в бок парохода вода, почувствовала на коже водяную прохладную пыль, обрадовалась, что путешествие началось, и в этой радости растворились все ностальгические печали. Через три дня она будет в Пуэрто-Аякучо; ей хотелось, чтобы поскорее настало утро и она увидела при свете дня все величие, всю безбрежность реки. Бегство, причины бегства — все перестало быть важным, все растворило радостное возбуждение, в памяти всплыл Париж, раскинувшийся внизу, под Монмартром, в мареве жары, в оранжевом облаке смога, тревожный Париж, который она бросила на произвол судьбы, и теперь ей трудно себе представить, что он на самом деле существует, что те, кого она оставила там, все так же работают в больнице, что пациенты мучаются от жары и выздоравливают, потея в своих кроватях, что туристы, преодолевая зной, упрямо лезут вверх к белоснежному Сакре-Кёр, а она, мерно покачиваясь в животе парохода, не спеша плывет к югу, затаившись во влажном убежище, умиротворенная, убаюканная скрипучей люлькой. В первый раз я приникла к главной артерии Венесуэлы и хочу воскресить давние ощущения, когда маленькой девочкой я с отцом — черноглазым, черноволосым, усатым, больше ничего о нем не помню, — приехала сюда познакомиться с бабушкой, мне едва исполнилось три года, фотографии накладываются на живые картинки и становятся моими воспоминаниями. Тихий дом в предместье Каракаса, иногда я вижу его во сне, а на фотобумаге «Кодак» он сильно пожелтел, я в красном платьице и белой панамке в чудесном саду, на пороге дома, на руках у бабушки. Я и сейчас живо помню бабушкин дом, волны запахов, что внезапно меня обступали, помню вкус еды и слова, утром я просыпалась раным-рано, соскакивала с кровати и бежала будить бабушку, а вечером — каждый вечер — бабушка, задергивая противомоскитную кисею, первую мою свадебную фату, наклонившись, шептала: «Qué sueňes con los angelitos», спи с ангелочками, что могла я знать об этой женщине, суровой и нежной, которая коротала дни между мессой, кухней и игрой с соседками в карты, я знала одно: она меня обожает, и любовь ее принимала как должное, она была моим утешением, потому что мне было плохо без мамы. Сколько мы прожили у бабушки, месяц, а может быть два, мама не поехала с нами, она радовалась глоточку свободы без дочки, радовалась, что отец, который всегда отсутствовал (в конце концов он исчезнет безвозвратно), в кои-то веки приступил к своим отцовским обязанностям, пусть хотя бы на одно-единственное лето, а он ничего лучше не придумал — так говорила мама, — как увезти меня к своей матери, потому что боялся остаться со мной один на один, без женских рук. Но мне думается, он испытывал гордость, знакомя меня со своей семьей, со своим городом, так же как я, вернувшись сюда через тридцать лет; я решила добраться по живой ране, наполненной бурными водами, до истоков, уехать от Каракаса, его шума и гор, к которым лепятся похожие на соты лачужки, потому что я знаю, а вернее, меня убеждали на протяжении многих лет, что отец исчез именно на этой реке, став, быть может, жертвой болезни, которая угнездилась в нем еще в Париже, где он не смог остаться даже ради своей дочери, меня, хотя он меня очень любил, я это знаю и вижу на фотографиях — осталось две или три, не больше, — где мы сняты с ним вдвоем. И вот сзади меня подталкивает Париж, тень отца тянет за руку к югу, и я сладко засыпаю у себя в каюте, положив руку на живот — кто там, мальчик, девочка, — я длю тайну неизвестности, не в силах, как и мама, смириться с безумием, с падением человека, уходящего все дальше от самого себя. У истоков разверзается зеленая бездна джунглей, и я, как иные рыбы, возвращаюсь, хоть и без большой надежды, в тинистое речное лоно, чтобы продолжить свой род.
Я пишу, время от времени поднимаю голову и в этот миг вспоминаю о врачах-писателях. Готфрид Бенн, если не ошибаюсь, был хирургом; Селин — терапевтом. Чехов, честно говоря, не знаю. Психиатров — так просто пруд пруди. Сельских лекарей. Биологов. Даже военврачей. Авиценна был последним врачом, который целил и тело, и душу. И Нострадамус — врач-пророк. Они навязчиво сопутствуют мне в моих писательских потугах. Пускают мне кровь, якобы для моего же блага, обессиливают, чтобы лучше вылечить. В этот поздний ночной час, когда мой белый халат и все мои скальпели и зажимы мирно спят по своим шкафам, когда мои прооперированные пациенты продолжают жить или умирают, но вдали от меня и без моего ведома, а я, скрючившись в крошечном кабинетике, низко наклонив голову и выставив вперед локоть — поза, характерная для левшей и очень неудобная, рука затекает, и поэтому приходится время от времени ею трясти, чтобы не сводила судорога, — в общем, когда я физически терзаю себя сочинительством, мои прославленные коллеги вцепляются в меня, как дьяволы, стараясь оторвать от вредоносной страницы.
Сын врача, внук врача, как оно довольно часто бывает, я родился в Каракасе, учился хорошо, но не блистал, а любовь к литературе унаследовал, похоже, от матери, это она постоянно подсовывала мне книги под взглядом отца — не скажу презрительным, скорее равнодушным. По семейной традиции я франкофил, до сорока лет был страстно влюблен в хирургию, а теперь оперирую по привычке, занимаюсь спортом из профессиональной необходимости; поздний и нежный отец, муж, неверный в воображении и очень редко телесно; тело, если смотреть в корень, составляет смысл моей жизни, а мой модус вивенди — не стоит думать, что я говорю всерьез, разумеется, иронизирую — заключается в том, что я — первый писатель-врач Латинской Америки, которому коллеги из зависти мешают писать, и вот кроме двух или трех эссе, которые никуда не пошли, незаконченных романов, которые я зачитывал вслух с нетерпением подростка и получал в ответ доброжелательные улыбки, те самые, после которых мигом выбрасываешь рукопись в корзину, как выбрасываешь опухоль, только что отторгнутую от больного органа; жест, разумеется, великолепен, но люди видят только результат, только извлеченный кусочек, а не умение, терпение, навык и опыт, которые понадобились, чтобы его извлечь… Я вспоминаю свою первую операцию в Каракасе — самую заурядную, нужно было срочно вырезать аппендикс, но как я был горд, когда держал в руке этот отросток, мне хотелось размахивать им, показывать всем — смотрите! Я достиг того, чего хотел! Получилось! — а для моего отца после сотен операций, иссечений, разрезанных тел этот аппендикс был всего-навсего кусочком воспаленной плоти, о котором он бы тут же забыл, и я тоже теперь не могу почувствовать тот первоначальный восторг победы, нет, я не пресытился, не накопил горечи, просто стал все воспринимать совсем по-другому, и великие тени, которые с насмешкой смотрят из-за плеча, как я заполняю странички, говорят мне о том же самом — ты пишешь, чтобы скрасить пустоту своего иллюзорного, абсурдного, буржуазного существования, признай это и не морочь себе голову. И тогда я вздыхаю, а потом послушно оставляю начатый абзац и, повернувшись к полкам, беру одну из книг, чтобы поговорить с кем-нибудь из них напрямую.