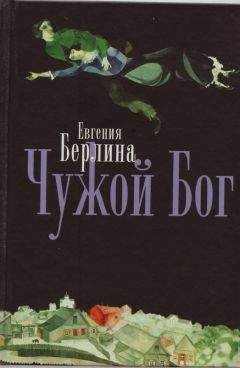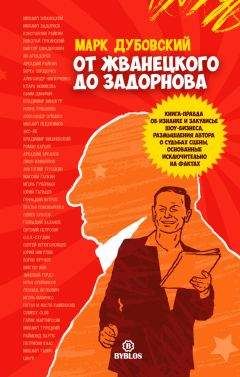Ознакомительная версия.
Моё сознание перемещает женщину в другой мир, чужое пространство — я не хочу, чтобы она была с нами.
— Ну, что делать будем? — вдруг весело повторяет она слова отца. У неё уверенный голос; страх, тяжёлый и удушливый страх, что эта женщина дорога моему отцу, охватывает меня.
Праздничная толпа вывалилась из клуба, сохраняя в лицах и телах жизнь большого влажного зала, пропитанного музыкой.
— Валяйте в машину, — говорит с покровительственной интонацией отец.
Женщина, взглянув на моё — испуганное лицо, усмехается. Мы не двигаемся.
Раздражение, которое я заметил в отце, вдруг выливается криком:
— Ну, быстрее садитесь, я кому говорю, промокашки!
Отец гонит машину по городу, увеличивая скорость. Сумерки наполняют тёмным светом улицы, стекают по стенам домов. Клуб остался далеко позади, а отец время от времени ещё сыпет насмешками в мой адрес:
— Ехать не хотел, его покататься приглашают взрослые люди, тоже мне, важная персона, — говорит он женщине, сидящей рядом с ним.
Я смотрю на её белокурые волосы и вспоминаю слова мамы: «Отца опять нет дома, который вечер нет. Я стала ему не нужна». И много раз повторена эта уверенность в его лжи, равнодушии, готовности уйти — робко, как урок, который не знаешь, а только заучил первые фразы. «Он не может быть безжалостным к себе, поэтому он безжалостен к нам с тобой. Но я не могу говорить с ним об этом», — её голос просит у меня прощения.
Мы подъезжаем к маленькому кафе. Ярко освещённая реклама слабо отражает наши лица сквозь скользкие маслянистые блики. Рядом вход.
Женщина сидит возле отца, напротив меня. Я разглядываю её: она моложе моей матери, но кожа — нездорового серого цвета, её волосы окрашены в белый цвет и завиты, они рассыпаны по плечам. На ней бархатный пиджак со следами пепла на лацкане, и она кого-то без конца изображает, пока ест рыбу и пьёт вино.
Отец вдруг спрашивает, заметила ли она, что он в новом костюме, английском. Женщина кивает. Через короткую паузу он говорит, что она — самая красивая женщина в городе. В тот момент, когда женщина в знак благодарности вынимает из своего рта сигарету и протягивает её отцу, я думаю, что женщина эта почему-то скрывает саму себя и хочет казаться просто женщиной, без имени. Я понимаю, сам не зная, как я могу понимать это, что она давно стала женщиной для всех мужчин и по-настоящему влюбиться в неё невозможно.
Я хочу думать об этом равнодушно, с насмешкой, но чувствую что, если теперь заставлю себя не думать обо всём этом, то нарушу что-то важное в себе.
«Неужели он с ней только потому, что она — женского рода, а он — мужского?» — думаю я об отце.
Мне кажется, что все люди в кафе смотрят на нас и догадываются, что я сижу за столиком с отцом и женщиной моего отца, и смотрят печально, и презирают меня. Я торопливо выбегаю из кафе…
Что-то случилось со всеми нами в нашем доме, как будто он уже начал разрушаться, мы перестали понимать друг друга, как будто нарушился механизм общения, и каждый начал считать себя обиженным. Каждый начал защищаться по-своему.
Я не осознавал тогда, как мы связаны. Я не знал, что так может быть: сначала ты любимец семьи, у тебя всё в порядке, а потом вдруг хаос, разрываются нити, и ты уже только часть мира, движущаяся по неизвестному пути молекула. И мир дробится — ты один.
Больше всех страдает моя мама. Он умер, а она ждёт его каждый вечер и волнуется, а он, как часто было все последние месяцы, не приходит ночевать.
Он был частью её жизни, и, наверное, она сама не знала, хорошо это или плохо — думать о том, как понравиться ему, как двигаться, о чем думать и как владеть своим телом, чтобы он снова полюбил её и вернулся к ней.
— Его погубила страсть этой женщины, — говорит моя мать. — Твой отец всегда жил наугад, десятки людей называют себя его приятелями, а он просто верил человеческим чувствам, он думал, что эта женщина любит его больше, чем я.
А перед моими глазами — людная улица, тесный мир, населённый мужчинами и женщинами, движущаяся толпа, отец рядом с белокурой женщиной, — я думаю о том, что отец так жил, спасаясь от одиночества и размышлений о самом себе, он не знал о себе слишком многого.
Мне кажется, что я перестал чувствовать к кому-либо сострадание, ненависть или любовь, с тех пор как он умер, из страха перед этими чувствами. Но я не в силах преодолеть отчаяния, что могу испытывать самые низменные чувства.
Я не знаю, сколько идёт этот дождь. Запах влажной одежды. Попадаешь под дождь, а потом на тебе всё мягкое, липкое, ворсистое — балахон. Тело чувствует намокшие складки одежды. Лишний груз, лишающий свободы.
И ещё изжога от кофе. В этом магазине, в кафетерии всегда белесый жидкий кофе, на дне чашки — толстая кожа гущи.
И целый день одно воспоминание: зубоврачебный кабинет, незнакомая женщина-врач, хозяйка металлических инструментов и огромного кресла. Она объясняет, что надо прийти ещё раз через три дня, а я, чувствуя во рту боль, лишь слежу за её движениями, я не слышу её; наконец она повторяет — настойчиво, сердито, и я повторяю шёпотом, что мне больно, и тогда она — жест к медсестре — злобно:
— Я такого глупого ещё не видывала.
А потом её пальцы на моих губах, все женские руки похожи на руки моей матери, и мне неловко в кресле. Я чувствую, как деревенеют губы, которых она касается, её уверенные руки, умеющие всё делать, и на секунду — защищённость, а потом чужой насмешливый голос, и я вздрагиваю, я понимаю, что это — чужая женщина, а не моя мама, и она со злобой смотрит на меня. И смешно, и стыдно.
Но я хочу любить её, я стараюсь, я робко и заискивающе заглядываю ей в глаза. Но врач, женщина с руками моей матери, презрительно смотрит на меня.
Я не могу уйти, но она уже не видит меня, она повернулась к медсестре и рассказывает о своей даче и цветах на участке, которые вянут по непонятной причине. Её раздражает их смерть.
— Ничего, я их сажаю снова, каждое лето, — говорит она.
…Он как-то сказал мне:
— Разве мы для вас, промокашек нервных, делаем новую жизнь.
Наверное, он всё-таки чувствовал себя хозяином жизни. И считал, что на многое имеет право, право сильного. Я старался как можно реже бывать дома. Он звонил друзьям, властно спрашивал, где я, иногда грозил мне и всегда говорил о матери.
«Ему, для того чтобы жить, нужна семья, — думал я. — И чтобы выжить. А та белокурая женщина?»
Его машина стоит в гараже неподалёку от дома. Мы идём к гаражу, он выводит машину, сажает меня рядом.
Электрический свет облепил бока машины. На проспекте мы сразу попадаем под красный свет, останавливаемся, я провожу ладонью по лицу и чувствую своё прерывистое дыхание.
Он говорит мне, что когда думает о нас с матерью, то чувствует в себе силу, похожую на ту, давнюю, появившуюся возле меня новорождённого, но тогда он точно знал, что надо делать, чтобы нам было хорошо, а сейчас слишком часто напряжённое желание понять меня разбивается о невидимую стену, и он чувствует вдруг бессилие.
— Я не изменяю твоей матери, — говорит он. — Просто человек имеет право прожить несколько жизней.
«Он нашёл выход, — думал я тогда. — Он нашёл выход, но только для себя, а не для меня и мамы».
В тот вечер, когда мы мотались с ним вдвоём по городу на машине, он сказал, что знает, откуда что берётся: я, его сын, засомневался в нем, своём отце, в крепости своего дома. Говоря так, он больше всего жалел самого себя.
— Ты ещё соплив знать… — он не договорил, сжал губы, руки его цепко и уверенно держали руль.
Я хочу рассказать ему, что был в её доме, прятался в подъезде, когда он вошёл туда: пахло палёными листьями, пятиэтажка из серого кирпича, распахнутая дверь подъезда, отец поднимается на третий этаж, нажимает кнопку звонка, вызвав протяжную трель, слышную даже мне внизу, и сразу же дверь открывается, в тёмном проёме стоит эта белокурая женщина, спрашивает что-то невнятно, видимо, шутливо, потому что он отвечает громко:
— Пришёл лучший мужчина, лучший друг, профессионал.
А потом дверь захлопывается и становится очень тихо. Я хочу простить его и не могу, стараюсь быть циничным, взрослым, всё понимающим, но не могу соединить два измерения, в которых он живёт.
Я хочу закрыть глаза, потом открыть широко и узнать его, погладить по бритой щеке, ощущая шершавость кожи, узнать в чужом человеке, приходящем от неё, своего отца. Но я делаю всё наоборот, стараюсь в отце увидеть чужое, незнакомое, чтобы право иметь не зависеть в душе от него.
Теперь ничего нельзя вернуть…
Когда мама долго ждёт, в её движениях чувствуется покорность. Я слышу её голос, близко вижу большое лицо, узнаваемое даже в темноте по малейшему вздоху или возгласу. И резкое удивление от мысли, что мама — это и есть я, только много красивее и совершеннее, и сразу осознание нелепости этой мысли, и страдальческое чувство родства, и её слова о ранке на моей руке — это давно, в детстве, сейчас уже не больно, — и её смелость, восхищающая меня, маленького, смелость жить. И я живу, подражая ей.
Ознакомительная версия.