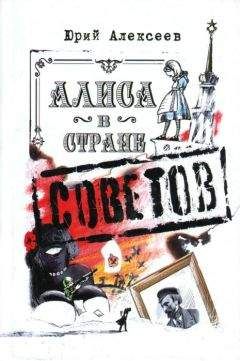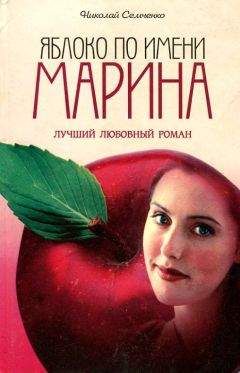Взрослые обомлели. Нависла чёрная, каслинского литья пауза. Только Ба-бах шелестел:
— Ну даёт, во даёт! Мухи же зимой не летают, а летом варежки на...й кому нужны!..
— Вот! Послушай, деточка, что говорит рабочий класс, — зацепился за шелест Неважнокто, налившись свежей кровью и побурев. — А то шепелявишь нам тут без понятия «мамочки», «тапочки». Чёрнотелые у нас по погоде отдыхают в Крыму без всякого людоедства. Пусть дикарями, но мухи зря не обидят. Коммунизм — отдельно, мухи отдельно! И вот, Кузькину мамочку мы вам сейчас покажем… — и к пожарному обернулся: — Девочку к логопеду! Папашу в «Америку»!!
«Avec plaisir![9] Con mucho gusto![10] — сладко забрезжило у Ивана в башке. — Там и до Кубы рукой подать… Ампарита, моя Ампарита!». А Кузьма сказал:
— Слушаюсь! Но у меня гвоздей нет, и есть опасность… Как их укараулить двоих?
— Сядешь сверху и возьмёшь девочку на закорки, — сказал Хотьбычто.
— Тогда не потянем, — замялся топорник. — Есть опасность, что с места не сдвинемся.
— У Безопасности никогда ничего нет, кроме опасности, — буркнул недовольно Примат.
— В-вымогатели, мать вашу в гроб!
Обманный свет разом померк в голове Ивана: «Так вот что скрывается под этой одеждой, лицом и поступками!?».
Тёртый Ба-бах, видать, тоже смикитил, каков «пожарничек» перед ним; засуетился, зашарил в карманах, откуда посыпались шпунтики, шайбы, шурупчики, и наконец извлеклась горстка гвоздей:
— Вот, мне для хорошего дела не жалко, — покосился он на Ивана, — хотя таких папочек можно бы и без тапочек, без расходов на «арматуру».
«С чего этот “живой” свидетель про тапочки заговорил!? — подивился Иван. — Чем я ему жизнь испортил?».
— Понятно, — сказал Кузьма, а может, и не Кузьма вовсе, гвоздики принимая.
— Да нет, они из забора попадали… после дождя, — сказал Ба-бах.
— А молоток? — спросил топорник пронзительно.
Ба-бах поёжился, пробормотал «ета самое», порыскал за пазухой и вынул замасленный гвоздодёр.
— Это ничего, — сказал он нагло. — Я сам, по шляпку вгоню, чтобы вам пальчики не зашибить, не запачкать.
«Откуда эта страсть помогать сильным?» — окончательно приуныл Иван. А тут ещё Алиса путалась под ногами:
— И мне «крашеный» гвоздик… и мне! Что вы меня оттесняете? Не хочу на закорки, хочу на замякиш.
— Опять пузыришься, опять подтекст!? — прикрикнул Неважнокто, по сторонам озираясь. — Диамат, твою так! Куда одры подевались? И малого дела нельзя никому поручить.
Диамат посмотрел на Примата глазами Брута и сказал:
— Успеется…
И точно. Всклубилась пыль, послышалось ржание, крик «поймите правильно!», и к павильону подкатила телега с «Америкой». На крышке горбился давешний похоронщик, мерзавец, и орал:
— Я к тому, что от слов не отказываюсь! Но вдвоём подыхать оно повеселее будет…
«О Боже, неужто до совмещённых гробов докатились?!» — остолбенел с головы до пят Иван.
— Верно, браток, напару сподручнее, — расхрабрился вконец Ба-бах. — А ну-ка, давай его на раз-два рубероидом.
И, кинувшись разом в голову, в ноги, они подняли задеревеневшего, будто рулон, Ивана, а «пожарный» пригласительно крышку гроба откинул:
— Милости прошу к нашему шалашу…
— А вот и неправильно! — топнула ножкой Алиса. — Милости так не просят. «Милому алкашу воблы нашалушу» — говорит Тожемне герцогинюшка.
— Работайте, товарищи, работайте, — подстегнул дрогнувших добровольцев Хотьбычто и, уцапав девочку, будто портфель, под мышку, в сторонку засеменил.
От герцогинюшкиных слов работнички перенервничали, наверно, и Ивана в гроб не уложили, а с грохнули, так что в глазах у него стало темно. Затем крышка захлопнулась, и потемнело вдвойне.
— Ну, как устроились? — прогудел с воли голос Неважнокого.
— Отлично! — сказал Иван. — Наконец-то в отдельной квартире.
— Наглец, — буркнул Неважнокто. — Другие хуже живут и не выдрючиваются.
— Как правило…
— Сам погибай, а других обслужи…
— Либо-чтоб-всем!..
— Гордость!
— Либо-чтоб-никому…
— Рабочий патриотизм! — загомонили за стенкой на два голоса, и гвоздики «крашеные» по крышке запрыгали: дзень-дзень… ах, ённать!.. тюк-тюк-тюк… ых, чтоб тебя!.. дзынь-дзынь… Готово!
— С раската его, как князька Гвидона, и плюхом! — напутствуя, прогудел Неважнокто. — Ветер по морю гуляет и всю придурь изгоняет.
Две задницы тотчас на крышку шмякнулись, завозились, устраиваясь, и тот, что в ногах у Ивана уселся, причмокнул:
— Чмно, н-но, сивые!
Немазаная телега хрумкнула ободьями, и экспедиторы голосом человека, надкусившего сладкое яблочко, слитно запели:
Через порт трёх морей,
Отъезжает еврей…
— Да вы что, совсем оборзели!? — вскинулся напоследок Иван и, о крышку ударившись, окончательно ушёл в забытьё.
Ивана подташнивало от килевой качки, и он обострённо слышал тягучие вздохи беспокойного моря. Волны катили гроб перекатисто и неровно, стуча о крышку дробными ударами. Добарахтаться таким самоходом до Кубы было вряд ли возможно. В надеждах оставалось разве что сделать пересадку в Босфоре — то есть отшпилить крышку, нырком соскользнуть на приютный плотик, какими выстлан по обе стороны этот узкий, местами не шире Клязьмы пролив.
Если начистоту, такой порыв он уже испытал три года назад, в конце шестьдесят второго, когда изгнанником возвращался с Кубы на исполнившем свой нефтяной долг танкере «Трудовик».
Танкер был пуст, высоко торчал над водой, едва скрывавшей винт-резак. Но не это остановило Ивана, когда он, запечатав в пистон шортовых плавок стодолларовую дарёную купюру, вышел на задранную корму и сказал себе: «Нигде, кроме как в Авиньоне».
Команда «Трудовика» предрассветно дремала, на палубе не было ни души. И старый город тоже ещё почивал, не разбуженный криками муэдзинов. Турецкое утро едва только начало розовить купола минаретов, но на плотиках уже копошились ранние куколки — ловцы загара; и босоногие оборвыши-«полиглоты» встречали русское судно коварно бьющими на подаяние воплями: «Шпартак» хорошо! Купуруза говно! Дай «Прима», праток-тофарич!».
Портовые стрелки сигарет знали чем растопить суровую душу советского мореплавателя, как подобраться к его заколотому на булавку карману.
«Отрезанному ломтю не житьё — поедом скушают», — справедливо укреплял себя в мыслях изгнанник Иван, подплывая к Босфору. Кто же не знает, что ждёт в отечестве высланного до срока спеца, да ещё лейтенанта тайной гвардии. Партия и правительство под псевдонимом «Родина» по-матерински требуют от сыновей не подвергаться влиянию заграничной улицы — из дому лишний раз не выходить, блюсти пододеяльную «трезвость» и, конечно, бесполость, поскольку любовный плен, как бы ты ни был ранен, приравнивается к предательству: постель чрезвычайно располагает к выдаче паролей, секретов и чертежей строительства социализма в отдельно взятой стране.
В момент, когда ты на лезвии, на краю, интуиция важнее рассудочности. Иван душою предчувствовал, чем отольётся ему «сыновье непослушание», какого ремня ему дома дадут с припевом «кормили-воспитывали!». От одного нытья этого можно было взбеситься. И всё же, с кормы к прыжку изготовившись, мысленно повторив «Стамбул-Париж» (небезызвестный путь русской эмиграции), он на словах «праток-тофарич» дрогнул… Да, дуря себя: «Там пачка осталась, шпанят угостить надо бы», — вернулся в каюту «за сигаретами», где и застрял в насильственных рассуждениях об офицерской чести.
Ничто не мешало Ивану прикинуться перед турками беглым матросом — отечество эту пулю с удовольствием проглотило бы. Но он нарочно внушал себе, что слишком много знает о боеготовности Кубы, сам в том участвовал, и прослыть обличителем ракетных манёвров родины человеку с улицы Трубной не к лицу. Зачепушил себя окончательно: дескать, стукачей Трубная за людей не считает, и в пивной Орлова всенепременно скажут, что он сдрейфил, скурвился, предал. «Выбрать свободу» — для них абстракция, миф, поскольку «уйти в бега» — понятие для Трубной достойное лишь в пределах границ, охраняемых Карацупой. А так — анафеме предадут, проклянут…
Конечно же, Трубная не Ватикан. Но в способности к самообману наш человек не знает себе равных.
Потом уже, проморгав Босфор и оказавшись в неодолимом саженками Чёрном море, Иван сам же свою слабину проклинал, как и тот день, когда его на Остров Свободы закинули. Мысленно он даже сравнивал себя с галерным рабом, тем только и радым, что толкает упрямо вёслами в сто пушек корабль на страх другим народам и государствам. «Да и какая там к чёрту честь, какое «освободительство», — ругал он себя, — когда туземцами «избранный» образ жизни зависит лишь от того, чьи «галеры», чьи танки вперёд подоспеют?».