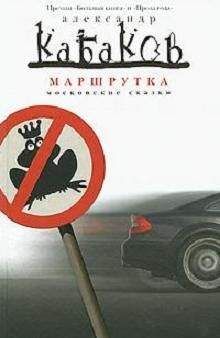— А-а-а-а, что наделала! Кто тронет волю покойничью, тот и долю покойничью на себя перетянет. А, что наделала! — внезапно раздается громкий вой откуда-то из угла.
Не совладав с собой, бешено визжу и вскакиваю. Дверь в комнату тут же распахивается, кто-то щелкает выключателем. На пороге — Карпик с товарищами. В кресле возле комода — сумасшедшая старуха, та, что бубнила в маршрутке. Смотрит на меня в упор безумными водянистыми глазами в обводе наведенных тенями фиолетовостей, мелко трусит головой и прической, как японский болванчик, повторяет несколько раз свою фразу, потом принимается за еще более маразматичное:
— Кто так делает? Кто так хоронит? Кто так? Бабок зовут, бабки ведают! Кто так? Так не положено! Так во снах видеть будете. А кто воли покойничей коснулся без наговора, тот долю на себя перетянет, век не свою жизнь жить будет… Кто так?
Одни люди подскакивает к ней, другие — ко мне:
— Успокойтесь, бабушка. Выпейте водички… Что происходит тут?
Старуха моментально замолкает. Пьет жадно и с удовольствием. Теперь она выглядит вполне нормальной. Тупит взгляд, опускает плечи, дает себя вывести…
— Что? — Павлик смотрит на меня в упор, с едва сдерживаемым гневом. — Что, говори?
— Мне сделалось нехорошо. Я зашла в комнату, а она как закричит из дальнего угла. Я испугалась. Любой бы испугался…
Да что он смотрит на меня так, будто я ему жизнь испортила? Просачиваюсь сквозь плечи любопытствующих, не смотрю ни на конец очереди, ни на предмет ее внимания… Вылетаю на улицу, берусь за сигареты. Надоели!
* * *
Кажется, все уже распрощались… Снова загружаются в транспорт, чтобы ехать к месту захоронения. Прячусь за дом, чтоб дали спокойно докурить. Все равно в своем траурном состоянии загружаться будут нестерпимо долго и муторно…
— Алло, да. Здесь, рыбка, здесь. А что, есть варианты? — не замечая меня, за дом влетает запыхавшаяся барышня. Та самая, с фляжечкой…. Она явно ищет уединения со своим телефоном и с фляжечкою. — Что? — нервно кричит своему телефонному собеседнику. — Нет, Артура тут не наблюдается. Да, действительно она и действительно мертвая. Поцелую и от тебя. — ухоженное лицо искажается тяжелой усмешкою, потом обретает отрешенно-деловое выражение. — Мы опоздали, друг мой. Сборник уже издают другие. Не знаю кто, что-то государственное. Да, именно тот. «Нараспашку», если не ошибаюсь … Да пусть издают, ну их к дьяволу! Мы что-нибудь другое для нее издадим… Что-нибудь более громкое!
Надо же, какой ажиотаж вокруг нашего сборника. «Нараспашку» — так назвали мы его еще при создании. Стихи. Маринкины, Анечкины, мои… А еще новеллы всякие и уматные Карпика рисуночки… И никто, никто им раньше не интересовался, а тут вдруг — сразу многие. Карпик, кстати, в связи с этим очень забавным образом нас всех и обзванивал. Никогда не забуду тот день, никогда не забуду ощущения…
— У меня две новости, с какой начинать? — наигранно приветливым голоском спросил тогда Карпик.
— С хорошей, конечно, — ответила я, ожидая большого приятного сюрприза а затем, в качестве плохой новости, малюсенького какого-нибудь к нему неприятного дополнения. Иначе, мне казалось, Карпуша бы не звонил. Попросил бы секретарш Нинелькиных, или еще кого. Раз звонит сам, хочет полноправно владеть честью носителя какой-то новости, значит новость не может быть ужасною… Так рассуждала я, и смеялась, немного кокетничая:
— С хорошей, конечно!
— С нашим «Нараспашку» подписали договор об издании. Хороший тираж и оформление должно быть приятственным, — сообщил Карпик, как-то очень уж сухо, для такой грандиозной новости, а потом сразу перешел к главному: — А плохая новость такая: Марина повесилась. Позавчера, в ванной, от сумасшествия. Похороны завтра. Собираемся возле ее подъезда в восемь, и не опаздывая. Хоронить будем у родителей. Да, полтора часа на машине от города. Она там уже.
К чести для себя я не стала ахать, рыдать и расспрашивать. Сухо сообщила, что все ясно, и что приду обязательно. Карпик даже растрогался:
— Спасибо, что так реагируешь. Я задолбался уже по телефону успокаивать и всем отчитываться, будто сам ее вешал. Тебе вообще боялся звонить, думал, замучаешь истерикой. Ты — молодец.
Я поблагодарила за похвалу и повесила трубку. Вообще, я так правильно отреагировала не из-за сдержанности, а от глупости. Не поняла я просто, что случилось. И тут же давай Павлуше на работу названивать. Не потому, что он тот, с кем любым горем поделиться можно, а потому что Марину мы оба хорошо знали, и он может распологать какой-то информацией… Звоню, звоню, а там — занято. Оказалось, потому что он мне дозвониться пытается:
— Ты в курсе? — хором спросили друг у друга мы, созвонившись-таки.
Выяснилось, что Павлуше только что звонил Жека — тоже близкий друг Марины и даже бывший муж по совместительству. Ничего конкретного Жека не рассказывал, сообщил, что они на пару с Карпушею занимаются организацией, попросил при матери никаких околоцерковных разговоров не вести, потому что отпевать самоубийцу церковь отказывается, и для Марининых близких это в сто крат усиливает трагедию.
Павлик как услышал — сполз по стенке без сил себя контролировать. Благо стул на работе возле телефона стоит, а то б так на пол и уселся. В таком состоянии, естественно, ничего толкового Павлуша у Жеки не спросил и очень поразился собственной реакциею.
— Знаешь, — говорил мне, подавленно. — Марина рассказывала как-то про сына поэтессы Цветаевой. Так тот сын, когда вернулся однажды к дому и услышал от соседей, что мать повесилась, схватился за голову и бессильно опустился на землю. Уселся прямо в дорожную пыль, хотя рос во Франции и потому был большим пижоном и чистюлею. А я, помню, еще не поверил этому рассказу. Слишком уж пафосно, картиночно, в Маринином стиле: взрослый мужик и вдруг подкашиваются ноги… А вот теперь у самого так. Это Марина меня, наверно, проучивает…
А потом Павлуша неожиданно разозлился и воспринял все случившееся прямиком на наш счет:
— Но что же мы могли поделать? Откуда мы знали? — закричал отчаянно.
И поплыл-поехал тот разговор, неприятный и с каждым словом всех нас загрязняющий…
— Вот и придется нам встретиться. Видишь, я же говорил, что все эти твои переосмысления — бред сплошной. Вот даже судьба нам сама доказывает… — сказал Павлик в конце разговора.
Об этом напоминать мне было не нужно, об этом я и сама подумала. А ведь накануне, совсем переполнившись презрением к себе и жалостью, я на миг стала чистою и решила все же сделать выбор. Ну конечно, не в пользу Павлика. Не потому, что он хуже Бореньки — он в стократ лучше, надежней и положительней. А потому что я — не чета Пашуле совсем. Нам обоим только хуже будет от продолжения этого союза. Сорвемся ведь, прекратим притворство — Павлик вон уже потихоньку срывается — и пойдут сплошные взаимные претензии и раздражения…
Сказать открыто о разрыве я не решилась: уж слишком ночь была звездной и пронзительной, а мы, сидящие на балконе, так походили на романтичную влюбленную пару… Я не смогла поломать красивую картинку, которую с таким азартом когда-то строила. Я была влюблена. Не в Павлушу, нет… В наши с ним романтичные и светлые отношения. И вот сейчас, когда все так запуталось, когда я врала каждый день и оттого нигде не чувствовала себя счастливою, когда я поняла, что пора делать окончательный выбор, то все равно не могла сказать нужных слов. Произнесла неопределенно намекающее:
— Может, отдохнем друг от друга немного?
Как ни странно, Павлуша принял мое высказыванье всерьез, не так как все предыдущие мои попытки поговорить на подобные темы — те попытки он принимал за мое кокетничанье и тут же набрасывался с цветами и необходимым, как он думал, словесным доказательством моей превосходности. Сейчас он уделил моему предложению должное внимание и разгорячился весь.
— Соня, я понимаю, отчего ты так говоришь. Знаю, что тебе все это кажется увяданием… — начал он с проникновенной глубиной в голосе. — Да, мы почти не гуляем вечерами по городу, да, видимся только дома у тебя и каждый раз все одинаково. Но посмотри на вещи объективно: новая работа, у меня, у тебя, новые нагрузки, хлопоты… Сейчас это грузит, но пойми, это же перспективы, они дают нам уверенность в будущем! Ведь кроме проявлений чувств, существуют еще и сами чувства! А у нас с ними все в порядке. Мы целенаправленно и устермленно идем к стабильным отношениям. Не побоюсь сказать даже «к семье». А это больше, чем страстные встречи и полуночные гуляния. Так? Мы ведь оба уже взрослые…
Взрослой скорее была я, а не он, потому во все эти выгоды, перспективы и планирования уже наигралась, и теперь хотела настоящего чувства. Было бы оно, а уже остальное — приложится, кровью и потом выстроится.
— Пойми, — продолжал Павлуша. — Мы ведь привыкли уже друг к другу. А привычка — это всегда убийство яркости… И видимся теперь чаще. Если каждый день будешь есть конфеты, то перестанешь ощущать их сладость, в конце концов…