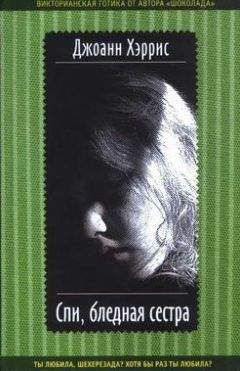Анук качнула кудрявой головкой и радостно, но не без снисхождения в голосе, доложила:
— Это кролик. И зовут его Пантуфль.
— Ах, кролик. Ну конечно же. — Арманда лукаво подмигнула мне. — Видишь, я знаю, каким ветром вас занесло. Я и сама пару раз ощущала на себе его дыхание. Может, я и стара, но одурачить меня никому не удастся. Никому.
Я кивнула:
— Может, вы и правы. Приходите как-нибудь в «Миндаль». Я знаю, кто какие лакомства любит. И вас угощу вашими любимыми. Получите большую коробку.
Арманда рассмеялась.
— О, шоколад мне нельзя. Каро и этот врач-недоумок запрещают. Как, впрочем, и все остальное, что доставляет мне удовольствие, — иронично добавила она. — Сначала запретили курить, потом пить, теперь это… Бог знает, наверно, еще надо бы перестать дышать, тогда, глядишь, буду жить вечно. — Она хохотнула, но как-то устало, и схватилась за грудь. Мне стало жутко: я почему-то сразу вспомнила Жозефину Мускат. — Я их не виню, — продолжала Арманда. — Они так живут. Пытаются защититься от всего. От жизни. От смерти.
Она улыбнулась, и выражением лица, несмотря на морщины, вдруг стала похожа на проказливого сорванца.
— Пожалуй, я зайду к тебе в любом случае, — сказала она. — Хотя бы для того, чтобы досадить кюре.
Она скрылась за углом своего беленого дома, а я задумалась над ее последней фразой. Анук на некотором удалении швыряла камни на обнажившийся берег у самой кромки воды.
Кюре. Кажется, я только и слышу о нем. Я стала размышлять о Франсисе Рейно.
Так уж случается, что в маленьких городках вроде Ланскне тон всему обществу зачастую задает один человек — школьный учитель, владелец кафе или священник. Этот человек — сердцевина механизма, вращающего ход жизни. Как пружина в часах, приводящая в движение колесики, которые крутят другие колесики, заставляют стучать молоточки и перемещают стрелки. Если пружина соскочит или сломается, часы останавливаются. Ланскне — что сломанные часы: стрелки неизменно показывают без минуты полночь, колесики и зубчики вхолостую вращаются за угодливым никчемным циферблатом. Поставь на церковных часах неправильное время, если хочешь провести дьявола, говорила моя мама. Но в данном случае, я подозревала, дьявол не поддался обману.
Ни на минуту.
16 февраля. Воскресенье
Моя мать была ведьмой. По крайней мере, она называла себя ведьмой, а частенько и искренне в это верила, так что в конце концов уже нельзя было определить, притворяется она или колдует по-настояшему. Арманда Вуазен чем-то напоминала ее: блестящие коварные глаза, длинные волосы, некогда, должно быть, иссиня-черные с отливом, мечтательность вкупе с цинизмом. От матери я научилась всему, что сформировало меня как личность. Научилась искусству обращать поражение в успех, вытягивать вилкой пальцы, дабы отвратить беду, шить саше, варить зелье, верить в то, что встреча с пауком до полуночи приносит удачу, после — несчастье… Но главное, она передала мне свою любовь к перемене мест, цыганскую непоседливость, которая заставляла нас скитаться по всей Европе и за ее пределами: год в Будапеште, следующий — в Праге, полгода в Риме, четыре года — в Афинах, затем через Альпы в Монако и вдоль побережья — Канны, Марсель, Барселона… К восемнадцати годам я потеряла счет городам, в которых мы жили, и языкам, на которых говорили. На жизнь мы тоже зарабатывали по-всякому: нанимались официантками, переводчиками, ремонтировали машины. Иногда покидали дешевые отели, в которых останавливались на одну ночь, через окно, не оплатив счет. Ездили на поездах без билетов, подделывали разрешения на работу, нелегально пересекали границы. Нас депортировали бессчетное число раз. Мать дважды арестовывали, но отпускали без предъявления обвинения. И имена мы меняли, переиначивая их в соответствии с традициями того или иного региона, в котором ненадолго оседали: Янна, Жанна, Джоанн, Джованна, Анна, Аннушка… Гонимые ветром, мы, словно преступники, постоянно находились в бегах, переводя громоздкий жизненный багаж в франки, фунты, кроны, доллары…
Не думайте, будто я страдала; жизнь в те годы я воспринимала как чудесное приключение. Нам с матерью хорошо было вдвоем. Потребности в отце я никогда не испытывала. У меня было много друзей. И все же, должно быть, эта неустроенность — вечные скитания, необходимость постоянно экономить — порой угнетала ее. Тем не менее мы продолжали мерить дороги, год за годом только увеличивая темп, — задерживались в одном месте на месяц, в крайнем случае на два, а потом вновь пускались в путь, словно изгнанники, гоняющиеся за последними лучами солнца. Не сразу, лишь по прошествии нескольких лет, поняла я, что убегали мы от смерти.
Ей было сорок. Она умирала от рака. Мне она призналась, что про болезнь знает давно, но в последнее время… Нет, в больницу она не ляжет. Никаких больниц, ясно? Ей осталось жить считаные годы, может, месяцы, а она еще хочет посмотреть Америку: Нью-Йорк, флоридские Эверглейдс… Мы теперь почти каждый день проводили в дороге. Мать по ночам, думая, что я сплю, гадала на картах. В Лиссабоне мы сели на пароход — нанялись работницами на кухню. Освобождались в два-три часа ночи, поднимались с рассветом. И что ни ночь — карты. Засаленные от времени и почтительного прикосновения пальцев. Раскладывая колоду на койке перед собой, она тихо бубнила себе под нос обозначения выпадавших карт, день ото дня все глубже погружаясь в пучину путаного бреда, в конечном итоге полностью завладевшего ее сознанием. Десятка пик, смерть. Тройка пик, смерть. Двойка пик, смерть. Колесница. Смерть.
Колесницей оказалось нью-йоркское такси, сбившее ее однажды летним вечером, когда мы закупали продукты на запруженных улочках китайского квартала. Но лучше уж погибнуть под колесами, чем умирать мучительной смертью от рака.
Спустя девять месяцев родилась моя дочь. Я назвала ее в честь себя и матери. Сочла, что для моего ребенка это самое подходящее имя. Ее отец даже не подозревал о ее существовании, да я и сама точно не знаю, от кого зачала, поскольку на заре моей молодости у меня было много случайных любовников. Но это не имело значения. Можно было бы очистить яблоко и, бросив кожуру через плечо, выяснить инициалы отца моей дочери, но меня это никогда не интересовало. Лишний балласт только тормозил бы нас.
И все же… Разве ветры не ослабли, не стали дуть реже, с тех пор как я покинула Нью-Йорк? Разве не испытываю я щемящую тоску, нечто вроде сожаления каждый раз, когда мы вновь срываемся с места? Пожалуй, испытываю. Двадцать пять лет скитаний, и вот наконец сидящая во мне пружина начала изнашиваться, я теряю былой энтузиазм, так же, как мать растеряла свой в последние годы жизни. Иногда я ловлю себя на том, что смотрю на солнце и пытаюсь представить, каково мне было бы наблюдать восход над одним и тем же горизонтом на протяжении пяти — или десяти, двадцати — лет. При этой мысли я ощущаю странное головокружение, мной овладевают страх и тоска. А Анук, моя маленькая бродяжка? Теперь, когда я сама мать, наша жизнь, полная рискованных приключений, видится мне в несколько ином свете. Я вспоминаю себя в детстве — смуглую девочку с длинными растрепанными волосами, в обносках, приобретенных в магазинах для бедных, суровым опытным путем постигающую такие науки, как математика и география, — сколько хлеба дадут на два франка? Как далеко можно уехать на поезде, заплатив за билет пятьдесят марок? — и понимаю, что не хочу для нее такой судьбы. Может, поэтому последние пять лет мы не покидаем Франции. Впервые в жизни у меня появился счет в банке. Появилось собственное дело.
Моя мать презрела бы меня за это. Но, наверно, и позавидовала бы. Отрешись от себя, если можешь, сказала бы она мне. Забудь, кто ты есть на самом деле. Не вспоминай, пока хватает сил. Но однажды, моя девочка, однажды ты все-таки не выдержишь. Поверь мне.
Сегодня я открыла шоколадную в обычное время. Но только до обеда — вторую половину дня я проведу с Анук, — утром в церкви служба, на площади будет народ. Вновь установилась присущая февралю грязная унылая погода: моросит холодный мелкий дождь, выкрасивший мостовые и небо в цвет старой оловянной посуды. Анук за прилавком читает книжку с детскими стишками, следя за дверью вместо меня, пока я готовлю на кухне партию mendiants — «нищих», названных так потому, что когда-то давно ими торговали на улицах бедняки и цыгане. Это мое любимое лакомство — кружочки из черного, молочного или белого шоколада, украшенные сверху тертой лимонной цедрой, миндалем и пухлыми ягодами изюма сорта малага. Анук любит mendiants с белым основанием, а я предпочитаю черные, из шоколадной глазури, сваренной из лучшего порошка какао, в составе его семьдесят процентов… С привкусом приятной горечи неведомых жарких тропиков. Моя мать и на это выразила бы свое презрение. И все же я творила волшебство.