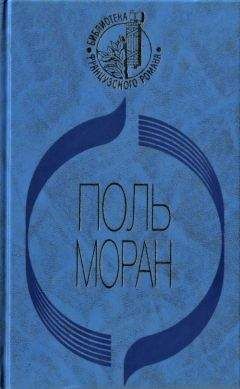— Надо сказать, моя кузина де Супемегр была просто святой женщиной!
— Да, святая, которая лишила вас девственности, шевалье. О ней говорили, что она изнасиловала бы всех швейцарских гвардейцев, если бы те не были вооружены!
— А вот и мадам де Донсевуар…
— Вы могли бы об этом не предупреждать, я чувствую ее на расстоянии! — воскликнул председатель суда. — Как-то мы охотились на вонючку в угодьях ее мужа-интенданта, а эта дама шла по лесу нам навстречу, так все собаки сбились с толку!
Председатель суда судил беспощадно. Ни для кого из добродетельных дам Нанта не находилось у него смягчающих обстоятельств: мадам де Пьерселен сколотила состояние, снабжая всех шпанскими мушками на манер Дю Барри, мадам де Врес забеременела от палача…
Одна лишь мадемуазель Бабю де Салиньи пользовалась их благосклонностью. Им нравилось то, что в свои двадцать пять лет она все еще не вышла замуж.
— Господин де Тримутье пускает в ход все средства, чтобы она полюбила его, но абсолютно безуспешно.
— Господин Грапен положил на нее глаз уже давно, но у него ничего не получается; он низкого происхождения.
— Господин советник Бепин, пытаясь добиться ее благосклонности, прилагает массу усилий во время воскресных приемов, но дело у него не движется.
— Господин Шадемуль обосновывает свои претензии тем, что он, мол, знает Верньо, но у него этот номер не пройдет; он хоть и парижанин, а тут все равно останется с носом!
— Получается, что у нас с вами больше шансов, чем у кого бы то ни было, — заметил председатель суда. — И когда я говорю «нас»…
— Я моложе вас, председатель, и у меня больше шансов понять то, что творится в душах юных девиц: Парфэт обладает философическим умом, но она отнюдь не скептик и поэтому не станет пренебрегать сердцем, бьющимся ради нее…
— С каких это пор гусята начали пасти гусей, шевалье? Я лучше, чем кто-либо другой, сумею заставить биться сердце этого ребенка!
Они шли, мысленно устремив свои взоры на эту прекрасную добычу. Ее имя вызвало разрядку, краткое перемирие. Они уже три года ждали того момента, когда Парфет пожелает выбрать одного из них. Но она не хотела выбирать супруга, ибо всю себя посвятила Революции; деистка, она обожала Господа во всем и везде, кроме алтаря; филантропка, она любила всех людей, но не хотела любить конкретно никого из них.
— Это дело требует долготерпения, но зато какая прекрасная партия! Единственная дочь… — вздохнул д’Онсе.
— Она наследует и от дяди Дебалле, у которого нет детей: ведь он нашего поля ягода…
— И еще пятьсот арпанов от тети Отвилль…
— И от кузины Эспиван де Вильбуасне пятьдесят тысяч ливров ренты…
— И от своего дедушки по материнской линии, который удвоил состояние, поставляя провиант повстанцам Америки.
Председатель суда распространял снисходительность, проявляемую им к девушке, на всю семью. Поговаривали, что дед Бабю разбогател, грабя потерпевшие крушение и оставленные моряками корабли. «Грабитель кораблей! Да ни в коей мере! — протестовал председатель суда. — Бабю был каботажным капитаном, должность весьма почетная, и, Бог мой, даже если какой-то обломок корабля плавал возле его борта…» — «Дядя Бабю был торговцем неграми». — «Ну и что? — возражал господин де Вьей Ор. — Разве нантские торговцы неграми не носят шпагу с серебряным эфесом? Да и не исчезла, надо сказать, потребность в рабах». — «Дед мадемуазель де Салиньи в молодости клеймил негров каленым железом и заковывал темнокожих узников нижней палубы в кандалы». — «Сказки! — восклицал председатель суда, в кои-то веки выступая с оправдательным приговором. — Я настаиваю на том, что он был весьма патриотичным пиратом, разве король не выдал ему каперское свидетельство, подняв его тем самым до ранга корсара? И разве он не пожаловал дворянский титул отцу Парфэт?» — «Этот отец прячется в Венегале, ожидая окончания Революции!» — посмеивались нантцы. — «Вы что, называете это эмиграцией? Африка — это же Франция».
Они, наконец, дошли до острова Фейдо; Луара здесь медленно спускалась меж светлых песков, холодно поблескивая отражавшимися от ее поверхности солнечными лучами. Особняк Бабю де Салиньи из кирпича и камня, украшенный большим рельефным гербом, остановил их, заставив почтительно замереть перед своим строгим, холодным, импозантным фасадом, в коем удивительным образом отразился характер самой мадемуазель де Салиньи. Это был один из тех неогреческих храмов, что бывают обычно наполнены серебряной посудой и банкнотами. Они вошли в переднюю, облицованную черными и белыми плитками.
— Что это? — спросил господин де Вьей Ор, указывая концом своей нарядной длинной трости на ярко-красный головной убор, лежащий среди шляп.
— Это колпак господина Демофиля Грапена, господин председатель; он привез его из Парижа.
— Фригийский колпак! — воскликнул магистрат.
— Мы пахнем провинцией, — печально произнес шевалье, протягивая лакею свой американский шапокляк, помнивший лучшие времена Нанта.
Они шли по паркету из амарантового дерева, шли той уверенной походкой, по которой узнают частых гостей; слуги-негры в ливреях канареечного цвета открывали перед ними двери. Они прошли через гостиные, нарядно обитые драгоценными породами деревьев с Антильских островов, что в изобилии встречаются во всех особняках нантских судовладельцев; темные изделия из лака, шкафчики, отделанные оловом с черепаховым панцирем, мебель, резные ножки которой, казалось, изогнулись под тяжестью золота, окна, точно прорезанные в стенах, прекрасные гобелены с вытканным на них светлым небом — все это великолепие сопровождало их до самой галереи с зеркальными аркадами, между которыми размещались оттененные голубым цветом панно, а под ним стояли посеребренные столики с выгнутыми ножками, заставленные восточноазиатскими статуэтками и большими китайскими фарфоровыми вазами. В конце галереи за двустворчатыми дверями, которые открывались только по воскресным дням, находилось «святилище», как называли апартаменты мадемуазель Салиньи, отведенные для ее самостоятельной деятельности. Сначала шла комната в виде ротонды с серыми сводчатыми панелями из дерева, украшенная ложными окнами и полками с нарисованными книгами, свет проникал сюда через кессонный купол, как в Пантеоне; из нее двери вели в кабинет и библиотеку в чисто английском духе: на длинном столе из красного дерева были разложены памфлеты и брошюры на злобу дня, а также свежие газеты: «Французский патриот», «Всеобщий курьер», «Курьер департаментов».
На концах этого стола лежали карты мира и возвышались армиллярные сферы, которые поддерживались фигурками африканских дикарей или американских индейцев из позолоченного дерева. Между двумя застекленными дверями с выпуклыми, частично зеленоватыми, частично фиолетовыми стеклами на столе, отведенном для научных занятий, располагались микроскопы, оптические приборы, лейденские банки, швейцарские самодвижущиеся игрушки под стеклом и коллекции жесткокрылых насекомых. Над дверями видны были выполненные в технике гризайля аллегорические фигуры Науки и Искусства. Вазы из лимонного дерева, стол для игры в бостон, тяжелые комфортабельные кресла, обитые красным сафьяном, и наконец складные десертные столики с холодными закусками перед камином, сделанным из розовой брекчии и украшенным скульптурой в виде перевитой гирляндами бычьей головы, — все это превращало кабинет дилетанта в настоящий клуб лучших нантских умов. Серебряная посуда, выполненная в подражание античным формам, устремляла свои отблески в сверкающие глубины красного дерева, клавесин с двумя клавирами и арфа в соседстве с картами полушарий и телескопами, казалось, объявляли о концерте музыки сфер.
Под взглядом самых знаменитых философов Античности — их бюсты из белого мрамора выстроились в стенных нишах, между их же полными собраниями сочинений, позолоченные корешки которых заставляли полки библиотеки блестеть, как пчелиные соты, — председатель суда и шевалье пересекли кабинет и на цыпочках приблизились к выходу в сад.
— Rus in urbel[4], — пробормотал господин де Вьей Ор.
Под легким небом осеннего утра друзья Просвещения и Революции, пользуясь бабьим летом, устроили ассамблею на газоне, зеленые ступени которого спускались к беседке из желтеющих лип, закрывавших своей тенью храм Дружбы. Около двадцати человек, сидя кружком, слушали научный доклад достоуважаемого нантца, господина де Тримутье, читавшего в тишине, прерываемой лишь посвистом дроздов.
Единственная среди них представительница слабого пола, мадемуазель де Салиньи, сидевшая в первом ряду, не пропускала мимо ушей ни единого слова. Это была высокая, красивая молодая женщина с черными вьющимися волосами, чистая и целомудренная, столь же целомудренная, как ее платье весталки с грациозными складками, облачавшее прямую стройную фигуру без ярко выраженных форм. Лицо ее, отмеченное благородной правильностью, вызвав восхищение, тотчас забывалось. От нее оставалось воспоминание как о некоем изящном образчике классицизма; ее подбородок был скорее напряженным, чем волевым, а глаза — скорее внимательными, чем умными. От архитектуры ее стать взяла неподвижность и логическую выверенность линий, ничто в ее облике не резало глаз: шея казалась стволом колонны, опирающейся на основание плеч; лоб вызывал ассоциации с фронтоном; уши выглядели, как лепное украшение, а волос будто коснулась рука скульптора.