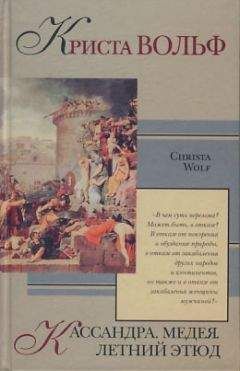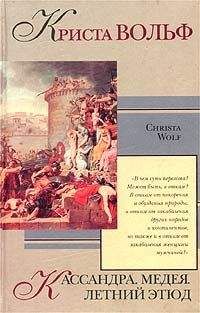Высокомерное желание отстоять право на собственное одиночество, на собственное несчастье жило в ней всегда, но лишь теперь оно отважилось пробиться наружу, оно цвело, разрасталось, охватывало ее колючей изгородью. Она была невызволима, никому не дано было отважиться на подвиг и вызволить ее, никому не дано было знать, когда минет тысячелетие и усыпанные красными цветами, крепко сцепившиеся одна с другой ветви раздвинутся и дадут ей дорогу. Приди, сон, приди, тысячелетие, чтобы меня разбудила другая рука. Приди, чтобы я проснулась, когда понятия <муж> и <жена> потеряют смысл. Когда все это останется в прошлом!
Она скорбела о Франце, как об умершем; сейчас он бодрствовал или спал в поезде, который вез его домой, и не знал, что он мертв, что все было напрасно - ее подчинение, которое осуществляла скорее она сама, нежели он, ибо откуда ему было знать, что надо в ней подчинять. Он и без того растратил на нее слишком много сил, всегда так старался быть к ней внимательным. Она всегда считала правильным, что решила с ним жить; в то же время ее удручало, что он вынужден с ней возиться, ведь ему от этого не было никакого проку, она желала бы ему такую жену, которая окружила бы его заботой, восхищалась бы им, его бы от этого нисколько не убыло, ничто не могло его принизить; ее мучения, не им причиненные, не могли его принизить тоже, но и не могли принести ему пользы, что-то прибавить, ибо по своей сути были противозаконны и безнадежны. Он благодушно с этим мирился, знал, что мог бы облегчить себе жизнь, и все же ему было с ней хорошо, она точно так же стала для него привычкой, как стала бы другая женщина, и, будучи мудрее Шарлотты, он давно уже распознал в браке некое состояние, которое сильнее индивидуумов, в него вступающих, а потому заметнее формирует их общность, чем они сами могли бы сформировать или тем паче изменить его. Как бы ни осуществлялся брак, его нельзя осуществлять произвольно, что-то изобретая, он не переносит новшеств, изменений, ибо заключить брак уже означает заключить себя в его форму.
Шарлотта испугалась, услышав глубокий вздох Мары, и увидела, что девушка заснула. Теперь она была одна, сосредоточенная на том, что становилось возможным. В ту минуту она совсем не понимала, почему вообще имела дело с мужчинами и почему вышла за одного из них. Уж слишком это было нелепо. Она подавила смешок и укусила себя за руку, чтобы не задремать. Ей надо было нести ночную вахту.
Что, если прежний союз ныне будет разорван? Она боялась последствий, которые неминуемо повлечет за собой этот разрыв. Скоро она встанет, разбудит Мару, пойдет с нею в спальню. Они сбросят с себя одежду; это будет непросто, но без этого не обойтись, так следует начать. Это будет новое начало. Но как можно обнажиться в самый первый раз? Как будет это происходить, если не можешь положиться на кожу и запах, на любопытство, питаемое неоднократно испытанным любопытством? Откуда впервые взяться любопытству, если ничто ему не предшествовало?
Ей не раз случалось стоять перед женщиной полунагой или в тонком белье. И всегда это было неприятно, по меньшей мере какую-то минуту: в пляжной кабине вдвоем с приятельницей, в бельевом магазине, в магазине модной одежды, когда продавщица помогала ей примерять грацию или платье. Но как может она выскользнуть из платья, уронить его на пол перед Марой, не почувствовав, что это и есть должный миг? Возможно, правда, - и вдруг это показалось ей просто чудесным, - они вовсе не будут смущены, потому что одежда у них состоит из одних и тех же предметов. Они начнут смеяться, разглядывать друг дружку, шептаться, как девчонки. В школьных гимнастических залах вечно взвивался вихрь нижнего белья, тонких розовых, голубых и белых вещиц. Девчонки затевали игру с этими тряпками, кидались ими, хохотали и танцевали на пари, прятали одежду то одной, то другой. И если бы Небо тогда нашло еще применение этим девочкам, оно бы, конечно, перенесло их к источникам, в леса и в гроты и выбрало бы одну из них на роль нимфы Эхо, дабы Земля оставалась юной и полной сказаний, которые не стареют.
Шарлотта склонилась над Марой - теперь, во сне, та была не опасна, поцеловала ее в лоб, в красиво изогнутые и торжественно вычерченные на бледном лице брови, поцеловала руку, свисающую с кресла, а потом очень робко, украдкой, склонилась над ее бесцветным ртом, с которого в течение ночи сошла губная помада.
Разве мог их пол еще раз сорвать какой-то плод, еще раз навлечь на себя гнев, еще раз сделать выбор в пользу Земли! Испытать новое пробуждение, новый стыд! Этот пол так и остался незавершенным. Возможности еще не иссякли. Плод не растрачен, пока нет, пока еще нет. Аромат всех плодов, равноценных первому, носится в воздухе. Кому-то может открыться иное познание. Она свободна. Настолько свободна, что ее можно еще раз ввести в искушение. Она хотела великого искушения, хотела держать за него ответ и быть осужденной, как те, кто однажды уже за это ответил.
Боже мой, думала она, ведь сегодня я не живу. Я во всем участвую, позволяю втянуть себя во все, что бы ни происходило, лишь бы не воспользоваться малейшей возможностью для себя. Время висит на мне клочьями. Я ничья жена. Меня еще нет вообще. Я хочу определиться, кто я, и, кроме того, хочу сотворить для себя некое создание - терпеливого, виноватого, призрачного соучастника. Я хочу Мару не потому, что меня влечет к себе ее рот, ее пол - мой собственный пол. Ничего подобного. Я хочу, чтобы у меня было собственное создание, и я его себе сотворю. Вместе мы всегда жили нашими идеями, а вот это - моя идея.
Если она полюбит Мару, все изменится.
У нее будет существо, которое она сможет ввести в мир. Любое мерило, любая тайна будут исходить о нее. Она всегда мечтала открыть мир кому-то еще и уклонялась, когда его хотели открыть ей, ожесточенно молчала, когда ей пытались что-то внушить, и вспоминала то время, когда была девочкой и еще знала, как набраться храбрости, знала, что ничего не надо бояться и можно шагать впереди с заливистым криком, который кому-то послужит призывом.
Если бы она могла полюбить Мару, то дома была бы совсем не здесь - не в этом городе и не в этой стране, не при муже и не в этом языке; она была бы у самой себя и для этой девушки возвела бы дом, новый дом. Выбирать пришлось бы тогда ей - дом, время приливов и отливов, язык. Она больше не была бы ничьей избранницей, и на этом языке ее больше никто не мог бы избрать.
К тому же при всех радостях, какие доставляла ей любовь к мужчинам, что-то всегда оставалось недосказанным. И хотя сейчас, бодрствуя, она все еще верила, что любит мужчин, между ними и ею оставалась нехоженая зона. Шарлотта дивилась тому, что люди, которым надлежало бы лучше знать, какие ласки им дозволено изобретать друг для друга, чем светилам, кустам и камням, так плохо об этом осведомлены. В стародавние времена лебедь и золотой дождь, наверно, еще чувствовали, что у них больше свободы действий, и мир не мог совсем уж забыть, что свободы действий тогда было больше и что тот малый набор ласк, который был выработан и передается по наследству, не исчерпывает всех возможностей. Ребенком Шарлотта хотела все любить и быть любимой всеми - буруном у скалы, горячим песком, шероховатыми досками, криком ястреба; звезда впилась ей в кожу, а дерево, которое она обняла, вызвало головокружение. Теперь-то уж она усвоила науку любви, но какой ценой! Казалось бы, для большинства людей сходиться друг с другом было некой унылой повинностью; видимо, они считали это необходимым, поскольку ничего другого жизнь им не предлагала, и потому пытались верить, что это правильно, что это прекрасно и как раз то, чего они желали. И ей пришло в голову, что только один-единственный из всех мужчин, каких она знала, быть может, действительно не мог обойтись без женщин. Она думала о Милане, которому ее было мало, которому всего было мало и который поэтому понял, что ей тоже всего мало, который проклял ее и себя, ибо их извращенные тела препятствовали прорыву давно забытых или еще неведомых ласк. Оно было совсем близко, вполне достижимо, и мгновеньями даже наступало экстаз, опьянение, провал, наслаждение. После этого она вступила в союз с мужчиной, основанный на доброте, влюбленности, благожелательности, заботе, надежности, защите, верности - на всем, что достойно уважения и что потом вовсе не осталось только в проекте, а воплотилось в жизнь.
Так для нее стало возможным выйти замуж, в ней созрела готовность вступить в брак и устроиться в этом состоянии, несмотря на случавшиеся вспышки бунта, несмотря на стремление расшатать его устои. Но всякий раз, когда она пыталась расшатать устои брака, ей вскоре становилось ясно, что заменить его, в сущности, нечем, у нее нет никакой идеи, и прав оказывался Франц, со своей улыбкой и сочувствием к ней, которое он потом проявлял. Она охотно принимала его снисходительность. Но не была уверена в том, что он так же охотно принял бы ее снисходительность к нему, если бы таковую заметил. Если бы, например, знал, что в глубине души она не могла поверить, будто все и должно быть так, как сложилось между ними, и прежде всего не способна была поверить, что он понимает ее тело. Их благополучный брак - то, что она так называла, - как раз и зиждился на том, что Франц ничего не понимал в ее теле. Правда, он вступил в эту чуждую для него область, исходил ее, но постарался устроиться там, где ему было удобней.