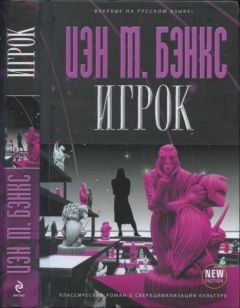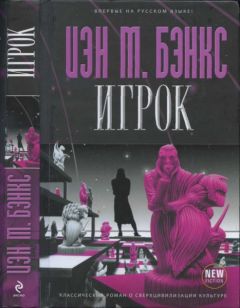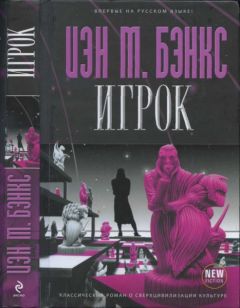Я набрал воздуха в легкие:
— А можем ли мы поговорить о том, о чем еще не говорили?
— А мы должны? — У Фила был страдальческий вид.
— Фил, на прошлой неделе меня не пускали в эфир три дня, а вчера мы в течение всей передачи гоняли одну воинствующую попсу…
— Из маршальских усилителей, что ли? Хорошо, «маршалловских».
— …а еще нам объяснили, что семь дней назад мир навсегда изменился. Разве наша передача, гипотетически животрепещущая, не должна все это отражать?
— «Гипотетически», «животрепещущая» — вот уж не думал, что ты знаешь такие длинные и трудные слова!
Я наклонился к микрофону и перешел на полушепот. Фил прикрыл глаза.
— Мысль крайне актуальная, дорогие радиослушатели. Особенно для наших далеких американских братьев… — (Фил застонал.) — Когда вы найдете Бен Ладена, убейте его, если он, конечно, и есть тот мерзавец, который стоит за всем этим, а если наткнетесь на его холодеющий труп, то… — Я сделал паузу, наблюдая, как минутная стрелка часов на стене студии, подергиваясь, подползает к цифре двенадцать; Фил снял очки. — То заверните его в свиную шкуру и похороните под Форт-Ноксом. Даже подскажу, на какой глубине: пусть она составит тысячу триста пятьдесят футов. Это соответствует ста десяти этажам рухнувших небоскребов, — Еще одна пауза, — Пусть звук, который сейчас раздался, вас не тревожит, дорогие радиослушатели, это просто голова моего режиссера мягко ударилась о стол. Да, и еще вот что, последнее: судя по всему, случившееся на прошлой неделе вовсе не являлось атакой на демократию; в противном случае они направили бы самолет на дом Альберта Гора. На сегодня все. Встретимся завтра в эфире, если у меня его не отберут. Ждите выпуска новостей после нескольких отъявленных образчиков консюмеристской пропаганды.
— Утром я зашла на Бонд-стрит. И знаешь, Кеннет, что я увидела там в одном магазине? Ничего похожего на их обычный товар. Догадайся, что продавалось вместо него!
— Откуда мне знать, Сели? Просто возьми да расскажи.
— Там было пять тысяч красных футболок с башням и-близнецами. Пять тысяч. Красных. И больше — ничего. Продавцы увешали ими весь магазин. Он стал похож на картинную галерею. Как трогательно, подумала я, вот настоящее искусство. Всего им, конечно, ни за что не продать, но разве это главное? — Она повернулась в постели и посмотрела на меня. — Какое-то притихшее все стало вокруг, даже страшно, правда? — И она опять отвернулась.
Я отвел в сторону пряди ее длинньгх темно-русых волос и лизнул ложбинку между лопатками. Та была цвета молочного шоколада и солоноватая на вкус. Я вдохнул теплый запах ее кожи, ощущения расплывались, тонули в этом сладком, пьянящем микроклимате ее длинного, стройного тела.
— Это из-за самолетов, — прошептал я наконец, скользя рукой по ее боку, талии и дальше, к бедру.
Тело ее, очень светлое для негритянки, на фоне белоснежной гостиничной простыни казалось удивительно темным, похожим на драгоценное древнее дерево.
— Самолеты? — переспросила она, беря мою руку и зажимая ее меж ладонями.
— Им запретили пролетать над городом, заходя на посадку в Хитроу. Чтобы еще какой-нибудь террорист не смог направить один из них на высотки Кэнэри-Уорф или Парламент. Вот здесь и стало тише.
(В тот день на развалинах свадебного банкета Фэй и Кулвиндера мы наблюдали, как до них постепенно доходит, что они уже не смогут поехать в Нью-Йорк в свадебное путешествие, а если когда и отправятся туда, то всяко не завтра; вполне возможно, им не удастся сделать это еще долго. Мы то и дело выходили на террасу, чтобы в очередной раз бросить взгляд на башни в районе Кэнэри-Уорф, высящиеся на фоне горизонта менее чем в миле от нас, и почти ожидали увидеть, как в одну из них врежется самолет и заставит ее осесть с тем же ужасным величием, отличившим гибель первой башни Всемирного торгового центра.
— Это второй Пирл-Харбор, — говорили мы.
— На Багдад сбросят ядреную бомбу.
— Не верю. Глазам своим не верю.
— Где Супермен? Где Бэтмен? Где Человек-паук?
— Где Брюс Уиллис или Том Круз, Арни или Сталлоне?
— Варвары перехватили нарратив.
— Черт, плохие парни взялись переписывать сценарий!..
— «Челленджер» и Чернобыль — это была научная фантастика; «Аум Синрикё» и зарин в токийском метро — это была манга; а тут — фильм-катастрофа, срежиссированный самим дьяволом.
Переключая один за другим каналы, мы наткнулись на какого-то телеведущего с Би-би-си, который утверждал, что сообщения очевидцев, якобы видевших, как люди выпрыгивали из окон торгового центра, не соответствуют истине: это, мол, просто отваливалась облицовка. Еще один щелчок — на экране появлялись эти самые «куски облицовки», они держали друг друга за руки, встречный поток воздуха задирал юбки. Затем обрушилась и вторая башня, больше никто не выпрыгивал и ничего не падало, появлялись лишь дополнительные телефрагменты, повествующие о прочих ужасах, творившихся в тот день в Америке.)
— Ну да, — произнесла Селия мягко и опять отвернулась. — Ты прав, — Она провела ладошкой по моей руке, — Но знаешь, я имела в виду, что все действительно как-то притихло, Кеннет. — Никто, кроме Селии, не называл меня «Кеннет», за исключением моей мамы. (Да еще, пожалуй, Эда, который порой обращался ко мне почти так же — правда, выговаривая это имя на свой лад, Кенниф, — да его матери, вариант которой тоже немного отличался, но это не в счет.) — Не так много людей… Меньше. Особенно в таких местах, как Мэй-фер и Найтсбридж, и в Челси тоже.
— Ну да, в шикарных кварталах, рассадниках всяческих наслаждений. Так ты считаешь, там стало тише?
— Определенно. Думаю, народ рванул в свое загородное жилье.
— Наверное, так и есть. А что здесь удерживает тебя?
— Ненавижу Глэдбрук.
Глэдбрук… Так назывался загородный дом Селии; верней, ее мужа. В графстве Суррей, в самой глубинке. Я невзлюбил его в тот же момент, когда о нем услышал, еще не зная, что муж Селии использует виллу преимущественно для деловых встреч, чтобы пускать людям пыль в глаза. Селия рассказывала, что никогда не могла чувствовать себя там дома и терпеть не может оставаться даже на одну ночь. Ну, в этом Глэд-бруке… И само имечко-то звучит фальшиво[22], словно название некой офшорной компании, которую какой-нибудь ушлый типчик из Сити мог купить, чтобы сэкономить на налогах. Собственно, я никогда там не был, но видел описание, составленное торговцем недвижимостью; оно представляло собой чуть ли не фотоальбом, которому следовало бы присвоить международный идентификационный номер ISBN, имеющийся у всех солидных изданий. Добрых страниц сорок, глянцевые фотографии, хотя хватило бы упоминания, что к дому ведет подогреваемая подъездная дорожка. Сами понимаете: Суррей, юг Англии, край ежедневных гололедов.
— Мистер М. сейчас там?
— Нет, Джон опять в Амстердаме.
— А-а.
Джон… Мистер М., то есть мистер Мерриэл. Импорт-экспорт. Торговля наркотиками — это во-первых; а в последнее время все больше людьми. А кроме того, так и норовит попробовать пальчиком чей-нибудь чужой пирог. И таких пирогов у него больше, чем пальцев. В наше время в сферу деловых интересов мистера М. вошли даже законные. Например, портфельные вложения в недвижимость. Впечатляющие, надо полагать. Парень только чуточку меня старше; может, около сорока. Спокойный, даже застенчивый, судя по отзывам, чувак, с почти безукоризненным выговором, в котором лишь слегка чувствуется юго-восточный акцент. Бледная кожа и черные волосы, обычно одет в неброский костюм, купленный где-нибудь на Сэвил-роу; и меньше всего похож на мультимиллионера и короля организованной преступности, способного стереть в порошок парня куда покрупней меня, так осторожно и тщательно — или, наоборот, столь кроваво и болезненно, — как только пожелает, и притом в любой день, когда ему заблагорассудится. А я тут трахаю его жену. Да я, наверно, сам трахнулся головой.
(Но потом, когда мы действительно начинаем заниматься сексом, я забываю обо всем на свете, и это уже не зов плоти, я ухожу в такие глубины, где понимаешь одно: нет ничего лучше, никогда ничего не было лучше, никогда ничего лучше не будет. Другой такой попросту не существует, такой нежной, такой искушенной, такой шаловливой и невинной, такой необузданной и мудрой одновременно. Она, кстати, тоже считает меня сумасшедшим, но только за то, что я так сильно ее хочу, а не потому, что рискую нарваться на неприятности, которых не избежать, если муж все узнает.
Сама же она любит утверждать, что ничего не боится, так как все равно чувствует себя уже наполовину умершей. Пожалуй, нужно попробовать объяснить такие ее заявления. Она не хочет сказать ничего такого в обыденном, тривиальном смысле — дескать, вымоталась или устала от жизни, сами знаете, как иногда говорят; она имеет в виду нечто совсем другое, абсолютно уникальное — в духе той придуманной ею же самой причудливой религии, которая одна только и способна все объяснить, представляющей систему верований без названия, ритуалов и канонов, которую она исповедует с легкой небрежностью истинного убеждения, а не с фундаменталистской страстностью тех, кто в душе, верно, боится, что их взгляды могут оказаться ошибочными. Это сумасшедшее варево из недозрелых плодов мистики вуду, скрещенных с самой забористой астрофизикой, какая могла привидеться разве что Стивену Хокингу, объевшемуся злой кислоты.