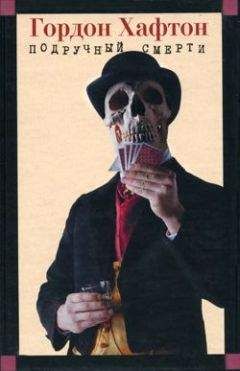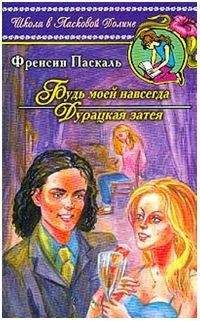— Люди! — звали они. — Люди!.. — А потом, уже почуяв беду и гибель, звали своего поводыря, кричали, что они ему все простят. — Мальчик! Мальчи-и-ик!.. — ласково, по-женски звали и кликали они.
К утру их уже не стало. Мечущиеся по болоту и сплошной топи, хватаясь за ветки кустов, они мало-помалу отдалились друг от друга и утонули, найдя мукам конец.
* * *
Знахарь отнял Пекалову руку чуть ниже локтя; культя подсохла, но обмотку еще держали. Пекалов очнулся в домишке, в хибарке близ церкви, где из призрения уже жил спившийся мастер по малахиту, человек когда-то известный и не бедный. Ухаживала там и прибирала богомольная старуха. Пекалов был, по-видимому, не в себе, потому что, очнувшийся, стал рассказывать старухе, какой мягкой была потерянная его рука (он говорил и смотрел на культю), и как ловко держала рука свечу, и как хорошо он помнит, что меж указательным и безымянным пальцами у него была малая родинка, — где же она?.. Старуха, не ответив ему, где родинка, сурово прикрикнула:
— А ну молчи!
И добавила:
— Станешь еще заплетаться — прогоню, и живи милостыней.
Старуха принесла куриный навар на ночь, Пекалов выпил, а сам все думал теперь о подкопе — можно ли ходить там? А если земля рухнула и подкопа вовсе уж нет?.. Он взволновался. О подкопе и заикаться было нельзя. Он знал, что ни помнить, ни думать об этом не надо, что богомольная старуха в слове тверда и что, пожалуй, выгонит его, как собаку, но желание проверить подкоп усиливалось. Осторожность и страх привели лишь к тому, что возникло детское желание пойти туда потихоньку: пойти ночью, поглядеть и скоренько, незаметно вернуться. Он припрятал спички. Спохватившийся (он охнул), он попробовал зажигать свечу единственной рукой, чиркая спичкой о ремень, — получилось! Это было важно, теперь он мог ждать, когда стемнеет и когда старуха уйдет. Он ждал; он все поглядывал на синие сумерки в окнах — так и уснул, и сон был, что он идет по подкопу.
Проснувшийся ночью от несильного и ровного стрекота дождя, он понял, что много проспал и что надо спешить, если он хочет незаметно вернуться. Он тихо вышел из дому. Покрывшись дерюжкой, он быстро шел под дождем, а едва лишь добрался до знакомого места, дерюжку отбросил и нырнул в подкоп. Место стало совсем знакомым, знакомее не бывает, и он счастливо засмеялся, как ребенок, нашедший свое.
Теперь не во сне — теперь он шел наяву, и как же здесь все переменилось: осенняя вода намыла в подкоп всякой дряни, пахло разлагающимися отбросами, а поверху помимо их же трудового дерьма плавал обильный сор. Пекалов шел по колено в воде. Удерживая свечу и боясь, что вода станет еще выше, он догадался переложить несколько спичек из кармана за ворот (однорукому, ему пришлось для этого задуть свечу и потом снова зажечь).
Но вода становилась ниже и ниже, а потом совсем сошла на нет, зато теперь он натыкался на завалы, падал, ронял свечу. Подкоп сделался узким. Они работали здесь, когда людей стало мало, копали, уже не заботясь о ширине, так что теперь свежие осыпи сузили проход до невозможности. Став на колени, он отгребал и очищал проход заново. Он часто ударялся о свод головой. Свеча погасла. Он лез на коленях и даже и полз, хватаясь рукой за выступы и подтягивая тело как червь. В конце пути он почувствовал застарелый запах мертвечины; судя по тому, сколько шагов он прошел и прополз, где-то тут истлевал слепец, раздавленный камнем. Это значило, что и сам валун рядом. Когда Пекалов ткнулся в валун плечом, послышался шорох, и Пекалова придавило сползшей с валуна сырой шапкой земли и глины. Он задергался, выбрался, как выбирается червь из осыпи, после чего и увидел серенький проблеск света.
Выйдя наружу, он прикрыл глаза ладонью: было как удар, он вылез прямо на восходящее солнце.
Едва он ступил на болото, его охватило почти детское, огромное счастье; солнце заливало и осоку, и кусты, и реку — он прыгал, скакал с кочки на кочку, забыв, что хотел таиться. «Э-э-э! О-о-о!.. А-а-а!» — кричащий, он протягивал руки к людям на той стороне, как бы делясь с ними радостью. Первые поселковские люди, вышедшие поутру кто на базар, кто по раннему делу, не услышали его, но услышали птиц. Встревоженные появившимся человеком и его криками, птицы взлетали, галдели, кружили за рекой — люди не могли их не заметить, тогда-то они заметили и крохотную фигурку человека, который бегал, скакал там по кочкам и кричал им, простирая руки. Поселковские люди все же узнали Пекалова: он кричал, махал, крутил культей, единственная его ладонь посверкивала на солнце.
Тогда-то поселковские люди, вглядевшись, увидели нимб. Они не знали, что за месяцы, когда рылся подкоп и когда покалеченный Пекалов лежал без сознания, он поседел; они только и видели белый свет над его головой, видели, что он, молодой, бегает, и кричит им, и ликует.
Больше никто из поселковских его не видел. Некоторые женщины уверяли, что тогда же к молодому Пекалову, осененному нимбом, подлетели ангелы — два ангела, — подхватили его под руки и унесли на небо. А через сто лет, когда наладились дороги и когда на той стороне тоже вырос поселок, меж поселками появился связующий мост, сначала деревянный, а рядом, у въезда на мост, поставили часовню. На стене — изображение. И до самого недавнего времени картинку, пусть сильно поблекшую, можно было видеть и различить: ангелы возносят человека на небо. Ангелы изображены с руками и с крыльями. Тело возносимого ими и взлетающего человека завалено несколько набок, потому что ангелу, который придерживал и подхватывал однорукого слева, не так удобно, как ангелу справа.
Есть мнение, что состояние бреда исключительно, но не интимно, а даже и ценно как раз тем, что человеческое знание самого себя тут обнажается (высвобождается) чуть ли не до самых глубинных ходов генетической памяти: ты вмещаешь больше, чем вместил. Есть мнение, что в состоянии бреда, освобожденный, мол, от цензуры своего века, ты способен воспринимать и способен слышать прошлое, мало того — жить им.
Однако на поверку настоящее не отпускает человека так просто; настоящее — цепко. (А банальность рада подстеречь.) Так и было, что в тяжелейшем шоковом состоянии человек вовсе не жил прошлым; человек не воображал себя ни пращуром, ни ручьем, ни птицей в полыни — он воображал себя громоотводом! (Работа на образ — неинтересное в расстроенном сознании.) Он считал, что он самый что ни на есть современный громоотвод, и что он, разумеется, на крыше, и что вот он уже поблескивает над зданием, как поблескивает меч в высоко поднятой руке.
Он жил и жизненно, то есть подлинно, чувствовал, как сначала тучи проходили мимо, а потом густели с ним рядом, поджимаясь в воздухе одна к другой: тучи тяжелели. Накрапывало. Следовала первая короткая вспышка, но промах! (тут важно его ощущение: он и хотел молнии и боялся) — и еще вспышки, которые все ближе и ближе к зданию, на котором он. Он весь сжимался в ужасе и в сладкой истоме; маленькое тельце его трепетало.
Наконец следовал выжданный и точный удар. Его всего передергивало. Пропуская тончайшую боль через тело, он думал, что погибает, — и гибель была в радость. Следовал еще удар. И он еще раз пропускал вспышку и боль через тонкий свой позвоночник. Он был весь в испарине. И в то же время, жаждущий, звал и кликал молнию вновь на себя. «Еще!.. Ко мне!..» — он сзывал тучи и искренне жалел, если вокруг светлело и гроза шла на убыль: ему казалось, что он недополучил свое, недобрал в жизни.
В палате для послеоперационных шоковых он лежал от меня совсем близко, койка к койке. И если за больничными окнами собиралась гроза, он первый слышал воздух, напоенный электричеством; медицинская сестра Оля задергивала шторы, а он кричал:
— Ко мне! Ко мне!..
Медсестра Оля, иногда милая, иногда вздорная, вполусмех отвечала:
— Ну вот еще, очень ты мне нужен.
А он, конечно, кричал не ей и не нам — кричал тучам и звал молнию, бедный. Он так ее звал! Психика восстановилась, и вскоре он вышел из шоковой палаты; он вышел раньше нас, он был ходячий. Он шастал по больнице, всюду заглядывал. Он выпрашивал у сестер и нещадно пил таблетки, за что и был прозван. Ему было двадцать девять лет. У него жила на позвоночнике опухоль, которая продвигалась, но не в самом опасном направлении: его несколько раз оперировали.
Года два спустя позвонил мой сотоварищ по больнице, один из сотоварищей, и сказал, что таблеточник-то в земле сырой, — и во мне что-то тихо щелкнуло, как щелкает оно при утрате. Что ни утрачивай, оно исчезает по простой, по нехитрой схеме: было и прошло, — пока вдруг не утратится необратимо, вплоть до непонимания. А непонимание при нас. Я поинтересовался, тяжелая ли была у таблеточника смерть.
— Пустяки: во сне.
Я только и помню, как он шлялся по больничным коридорам, выпрашивая крохотные белые таблетки, и как ему говорили, что же ты, мол, поедаешь их без счета, химия, мол, и неполезно, и нельзя же быть таким безвольным, перетерпел бы, а он с лучащимся лицом, с хитренькой и милой улыбочкой отвечал: