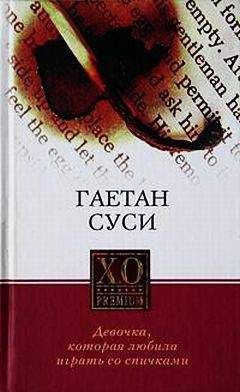И первое, с чем я там столкнулся, с места мне не сойти, были колокола, потому что они звонили, а звон их у меня в голове вызывал совсем другие ассоциации. Сейчас объясню вам почему. Я уже говорил, что в вопросах теологии собаку съел, и все такое, потому что в церквах и во всем, что с ними связано, я знал толк с тех самых пор, как запомнил первые папины затрещины, потому что папа нам все про церкви объяснял и внутри, и снаружи, и картинки еще при этом в словарях показывал про неф, про крестные перегородки, трансепты с колокольнями и про все остальное. Папа нас заставлял все заучивать наизусть, и при этом ему было не до шуток, я ведь вам только что про затрещины не ради красного словца намекнул, думаете, нам нравилось битыми ходить? На вопрос: «Что делают колокола?» я неизменно отвечал: «Бу-у-у-м, бу-у-у-м, бу-у-у-м», потому что сбить здесь меня с панталыку не смог бы никто, я совершенно точно знаю, что этот ответ правильный, но только я никогда не связывал его с глухим звоном, время от времени доносившемся до нас со стороны сосновой рощи, если ветер дул в нашу сторону, то есть от рощи к дому, и я всегда думал, что этот звук доносится от туч или облаков, что это у них такая музыка получается, когда они сливаются друг с другом или сталкиваются, стукаясь друг о друга вроде как бы толстыми животиками, даже не знаю, как это лучше выразить, и только теперь до меня дошло, что на самом деле эти так хорошо знакомые нам звуки и есть «бу-у-у-м, бу-у-у-м» церковных колоколов, но как же, скажите мне на милость, я раньше-то мог об этом догадаться? На колокольне нашей часовни во владениях наших колоколов нет, и я не пророк. Это открытие так меня взволновало, что, ничтоже сумняшеся, я плюхнулся прямо на землю, словно на паперть церковную, как подрубленный, и подумал о том, какой этот звук грустный, и даже всхлипнул пару раз от печали этого звука глубокого, потому что доносился он до нас от земли, а тучи с облаками ни о чем нам не вещали, они просто грохотали. Но я тут же сказал себе, что не развлекаться сюда пришел.
И вторая вещь, поразившая меня до глубины души, заключалась в том, что не прошел я по селу и трех минут, как увидел ближнего моего и каким-то шестым чувством ощутил, что этот ближний оказался либо шлюхой, либо целомудренной девственницей. Это существо было одето во все черное, что сближало его с некоторыми другими моими ближними, если только я могу высказать здесь свое суждение, и шло оно, сгорбившись настолько, что мне его стало жалко, должно быть, она прожила на земле даже больше отца нашего, потому что при взгляде на ее лицо на ум тут же приходило сравнение со сморщившейся залежалой картофелиной, такая вот у нее была физиономия. Она взглянула на меня, можно сказать, вроде как с удивлением, как на что-то, что приятным зрелищем никак нельзя назвать, хотя, может быть, мне это только показалось, и так сложила руки, чтобы прижать сумку к своим опухолям, но с моей точки зрения это была излишняя предосторожность, потому что на ее сумку я вовсе не покушался, и к тому же она шла по другой стороне улицы, и между нами была лощадь, понимаете?
— Папа умер! — крикнул я ей.
Я так и не понял, уловила она смысл тех слов, которые вырвались у меня изо рта, или нет. Глядя на нее, я так и не смог определить, какого она пола — целомудренная девственница, шлюха или еще кто-нибудь, потому что опыта и всего остального у меня в таких вещах было маловато, и еще потому, что в словарях не всему дано объяснение, а я хорошо знаю свои возможности, можете мне поверить. И по опухолям и по всякому другому здесь судить нельзя, я сам живое тому доказательство. Мне тут же захотелось самым убедительным образом выказать ей безупречность своих благих намерений, потому что я совсем не люблю смотреть на беспричинные страдания. И я снова ей крикнул:
— Да пребудет с тобой господь, шлюха старая! — потому что, обращаясь к ней, я мог выбирать только одну возможность из двух.
Но я там был не для того, чтобы ближних своих благословлять, и потому, как только слезы мои высохли, я отправился дальше по дороге через село. Уж не знаю, откуда у меня взялось столько отваги, должно быть, ее питало мое чувство долга по отношению к отцу. Раньше, когда папа еще был жив, у меня не было никаких резонов обращаться к моим ближним, а теперь, когда он сам уже не мог за себя постоять, должен же был кто-нибудь взять это на себя и еще сосновый ящик ему найти, и это чувство ветром дуло во все мои паруса. А еще я заметил, что, единожды нарушив папин запрет переходить границы наших владений, я теперь мог и другие его запреты нарушать с такой же легкостью, с какой летом ходил в ближние рощи, где кусты оплетала тонкая паутина, украшенная серебряными каплями, которые потом утренними звездами оставались у меня на волосах.
На одном из домов черным по белому было написано: «Универсальный магазин». Вы уж меня простите, извините меня, пожалуйста, но читать секретариусы обучены. Дом был с большими такими окнами, за которыми стояли всевозможные товары. Я оставил лошадь посреди дороги и зашел внутрь со своими грошами. Там было очень много разных вещей, которые есть и дома, только они там лежали в огромных количествах, еда, например, в картонных коробках, а еще там были вещи, которых дома не увидишь никогда, например, бамбино, так это называется, и ростом этот бамбино был мне где-то по коленку. Я спросил у бамбино, можно ли мне обменять мои гроши на гроб, но с таким же точно успехом я мог бы задать свой вопрос белым камешкам цвета папиного трупа, наваленным на дне высохшего ручья. Я положил руку на череп бамбино, мягкий и покрытый светлыми волосиками, и — честное слово вам даю — это как-то на меня подействовало. А все, должно быть, потому, что мы с братом часто видели на иллюстрациях, как эти бамбино поднимаются в воздух, словно воздушные шарики, потому что на спинках у них крылышки такие маленькие, которые у них сохраняются еще несколько лет после чистилища для младенцев, которые умерли до крещения, до тех пор пока они не полиняют, не перевоплотятся и не изменят свой облик, как, например, гусеница в бабочку превращается, то есть никакого тебе вознесения не будет, пока положенный срок не выйдет. Так вот, как я уже говорил, положил я руку ему на голову, но, может быть, он тех звуков не понимал, которые с языка моего срывались, как с трамплина пружинистого, почем мне знать? Слова-то ведь у меня во рту, в пространстве между щек образуются, и язык мой потом оттуда выталкивает их наружу с невероятной скоростью, а потому я не исключаю, что все они проскочили поверх головы бамбино, у которого хоть, казалось, и были крылышки, но головкой своей он мне едва доставал до бедра. И тогда, чтоб до него лучше дошло, я попытался мимикой довести до его сознания идею о бренных останках — я замер на месте не двигаясь, закрыл глаза, показал ему пальцем на верхнюю губу, чтоб он понял, что речь идет о папиных усах, и все такое, а потом кончиком носа повел в сторону каких-то коробок в надежде, что он хоть что-то сообразит, но результат был такой, как вы уже сами поняли. И в этот самый момент к нам вышла шлюха.
Которая появилась из глубины магазина, так это заведение называется. Как можно было предсказать заранее, на ней было черное платье, на голове красовалась небольшая шляпка, которая, как мне показалось, была самой нелепой вещью в мире, с серой вуалью, ниспадавшей ей на глаза, как будто были такие вещи, которые ей не хотелось видеть или она готова была на них смотреть, только если видела их как бы вполглаза, как будто смотришь &а руку, которой прикрываешь глаза от слишком яркого света, и она натягивала перчатку. Она мне сказала, что закрыта по чрезвычайной причине похорон, а я ответил ей, что именно об этом я только и думаю: как же быстро новости разносятся! Из-за того, что глаза ее не были мне видны, я никак не мог определить, так ли она быстро соображала, как я, или она дотягивала только до той ступени, до которой дорос братец, и меня это сильно доставало, потому что, чем еще, кроме выражения глаз, скажите на милость, отличается человек от своих будущих бренных останков? Так что я стал стараться изо всех сил. Но попробуйте объяснить шлюхе, что перед тем как человека похоронить, вам нужно иметь гроб, который кладут в могилу! А она мне все свое твердит, закрыта я, закрыта, вы, что, не понимаете что ли? Если кто-то закрыт, это не мешает ему выполнять свой долг, сказал я ей, выходя из себя, на что у меня были все основания, потому что я уже раскипятился как чайник и был готов взорваться как бомба, но тем не менее сдержался и сказал ей в точности вот такие слова:
— Все очень просто. Вы и ваш бамбино даете мне гроб, я даю вам мои гроши, мы кладем внутрь бренные останки, а потом на опушке сосновой рощи копаем могилу и опускаем в нее гроб с останками.
Ну, и дела! Ее неожиданные всхлипывания поставили меня в тупик. Я никак не мог понять, почему папина смерть могла настолько ее опечалить, потому что большую часть времени, проведенного на земле, он оставался с нами, так что не могло быть ничего такого, что оправдывало бы такую сильную привязанность к нему этой шлюхи, что она прямо разрыдалась, услышав про его труп, — а я разве плакал? — хоть я-то ему сыном прихожусь, провалиться мне на этом месте. Она исчезла в глубине своего магазина, прижав платочек к носику и забрав с собой бамбино, который смотрел на меня, посасывая себе пальчик, и до меня донеслось, как она там кому-то там сказала: