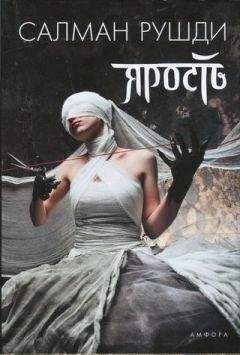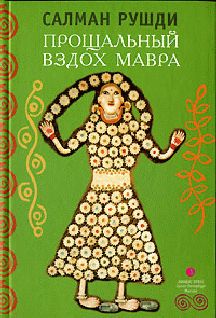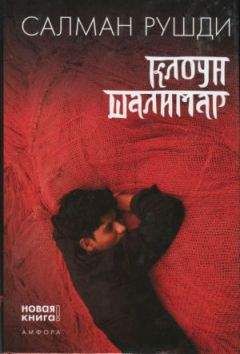Ознакомительная версия.
Тогда он решил, что хоть и голоден сексуально, но все же не настолько. Он вежливо выпроводил ее, довел до главной улицы, Кингз-Пэрэйд, и посадил в такси. Она посмотрела на него из окна отъезжающей машины затуманенным взглядом, а потом закрыла глаза, откинулась назад и слегка пожала плечами: Воля ваша… После он узнал, что Перри Ущипни-за-Задницу была своего рода знаменитостью в глобальных литературных кругах. Нынче можно стать известным благодаря чему угодно, вот и она сумела прославиться.
На следующее утро он навестил Дабдаба. Того разместили не в главном больничном здании, а в районе Трампингтон-роуд, в маленьком симпатичном строении из кирпича недалеко от дороги, со всех сторон окруженном тенистой зеленью; оно напоминало корпус для безнадежных больных. Дабдаб стоял у окна и курил. На нем была накрахмаленная полосатая пижама, поверх которой было накинуто какое-то заношенное, все в пятнах одеяние, похожее на старый халат их студенческих лет и призванное, видимо, исполнять ту же роль, что и спасительное одеяло, под которым скрывался Соланка в свой первый день в Кембридже. Запястья Дабдаба были туго перебинтованы. Он пополнел и постарел, но не утратил — будь она трижды проклята — своей блестящей светской улыбки. Профессору Соланке подумалось, что, если бы ему самому происхождение навязало подобную маску, его запястья оказались бы в бинтах намного раньше.
— Эти вязы поражены голландской болезнью, — проговорил Дабдаб, указывая на обрубки. — Страшное дело. Вязы доброй старой Англии облетают и гибнут. (ОблетаютЪ и гибнутЪ.)
Профессор Соланка не ответил. Он пришел сюда не для того, чтобы беседовать о деревьях.
Дабдаб обернулся к нему и взял себя в руки.
— Не ожидай ничего и не будешь разочарован, — пробормотал он по-мальчишески робко. — Мне бы стоило прислушаться к собственным лекциям.
Соланка промолчал и теперь. Тогда, впервые за много лет, Дабдаб нарушил кодекс старого итонца.
— Все дело в страданиях, — бесстрастно произнес он. — Почему мы все должны так страдать? Отчего вокруг столько страданий? Почему их невозможно остановить? Ты считаешь, будто отгородился от них, выстроил плотину, но ее постоянно размывает, а в один прекрасный день просто сносит к чертовой матери. И такое происходит не со мной одним. Со мною-то все ясно, но ведь так происходит с каждым. И с тобой в том числе. Почему оно должно повторяться снова и снова? Это убивает нас. Я хочу сказать, меня. Это убивает меня.
— Звучит немного абстрактно, — мягко отозвался Соланка.
— Да, пожалуй. — Профессор Соланка явственно услышал щелчок замка. Защитный панцирь снова был на месте. — Прости, что не постучался в твою дверь за добрым советом. Это непросто, когда ты — Винни-Пух и в голове твоей опилки.
— Послушай, — попросил его Соланка, — просто расскажи мне все. Пожалуйста.
— То-то и хуже всего, что рассказывать нечего. Никаких причин, ни прямых, ни косвенных. Просто в один прекрасный день ты просыпаешься и осознаёшь, что твоя жизнь больше тебе не принадлежит. И твое тело — я не знаю, как сказать, чтобы ты понял, настолько это страшно, — оно больше не твое. А жизнь течет сама по себе. Но и она не твоя, и в ней не ты живешь. Ты не имеешь с нею ничего общего. Вот и всё. Звучит не очень убедительно, просто поверь. Это все равно как если бы тебя загипнотизировали и внушили, что на земле под окнами навалена большая куча матов. Тогда отчего же не прыгнуть?
— Знаю. Со мной такое было. Может, правда, не настолько серьезно, — согласился Соланка, которому вспомнилась давняя ночь в общежитии на Маркет-Хилл. — Это ты тогда вызволил меня оттуда. Теперь моя очередь.
Его собеседник замотал головой:
— Боюсь, оттуда невозможно так просто взять и вернуться.
Постоянное внимание к его персоне, статус звезды усугубили экзистенциальный кризис Дабдаба. Чем более выдающимся представителем человечества он считался, тем меньше ощущал себя человеком. Тогда он решил отступить, затвориться в обители традиционной академической науки. Никаких больше мировых турне. Никакого «Чудотворца». Никакого Дерриды. Ничего, что напоминало бы перформанс. Окрыленный этой надеждой, он и вернулся в Кембридж в обществе Перри Пинкус, этой сексуальной бабочки-бесстыдницы, искренне веря в то, что с ней сумеет создать нормальную пару и зажить обычной семейной жизнью. Вот насколько далеко он зашел.
Кшиштоф Уотерфорд-Вайда совершил еще три неудачные попытки самоубийства. И как раз за месяц до того, как профессор Соланка, выражаясь метафорически, тоже «покончил счеты с жизнью», то есть расстался со всеми, кто был ему дорог, и, взяв с собой лишь куклу с ультракороткой стрижкой, в самом плачевном виде, искромсанную, в изрезанной одежде, — Глупышку из первой, к тому моменту уже раритетной, промышленной партии, — неожиданно для всех рванул в Америку, земная жизнь Дабдаба завершилась. Три его артерии совершенно закупорились. Несложная операция шунтирования могла бы его спасти, но он отказался от нее и «пал», словно старый добрый английский вяз, чем, возможно, если вы ищете подобных объяснений, дал толчок метаморфозе Соланки. Уже в Нью-Йорке, вспоминая почившего друга, профессор осознал, что часто следовал за Дабдабом — во многих своих размышлениях, да, но также на пути в le monde médiatique[2], в Америку, в кризис.
А Перри Пинкус одной из первых интуитивно угадала эту их связь. Она вернулась в родной Сан-Диего, где читала в местном колледже курс лекций о модных современных литераторах и критиках, с которыми спала. «Пинкус и ее сто и один партнер» — так, в своей обычной, бесстыдной манере, охарактеризовала она этот курс Соланке в одной из коротких поздравительных открыток, которые теперь присылала ему к каждому празднику. «Это мое персональное собрание величайших хитов, моя горячая двадцатка, — писала она со свойственным ей жестким цинизмом. — Вы не вошли в нее, профессор. Я не могу вникнуть в труд человека, если не знаю, с какой стороны к нему лучше подобраться — спереди или сзади». Вместе с каждой поздравительной открыткой она непременно отправляла ему мягкую игрушку — маленький подарок, символический смысл которого оставался за пределами понимания Соланки. Утконосы, моржи, белые медведи… Элеанор всегда ужасно забавляли эти мягкие сувениры из Калифорнии. «Поскольку ты отказался спать с ней тогда, — разъясняла она супругу, — она не может воспринимать тебя в качестве любовника, даже потенциального. И пытается вместо этого стать для тебя мамочкой. Ну, и каково это — быть сыночком Перри Ущипни-за-Задницу?»
3
В своей двухэтажной съемной квартире в Верхнем Уэст-Сайде — высокие потолки, бесспорное удобство, роскошная отделка обоих уровней дубовыми панелями и богатая библиотека, делающая честь владельцам апартаментов, — профессор Малик Соланка грел в руке бокал с красным «гейзервиль зинфандель» и предавался грусти. Он вполне сознательно принял решение уехать и все же тосковал по прежней жизни. Что бы там ни говорила по телефону Элеанор, их разрыв был бесповоротным. Соланка не считал себя ни трусом, ни предателем, и тем не менее он сбрасывал старую кожу чаще, чем змея. Семья, родина и даже не одна, а две жены — вот что он оставил позади. А теперь еще и ребенок. Может, это ошибка — усматривать в его последнем исходе что-то необычное? Возможно, горькая правда состоит в том, что, совершая подобное, он не идет против своей природы, а, напротив, следует ей… Когда он стоял нагой перед зеркалом неприкрашенной правды, именно так все и выглядело.
И тем не менее он, как и Перри Пинкус, считал себя хорошим человеком. И женщины тоже считали его таковым. Чувствуя в нем свирепую убежденность, редко обнаруживаемую в сегодняшних мужчинах, они нередко позволяли себе влюбиться в него, дивясь той стремительности, с которой погружались — умудренные опытом, осторожные — в омут эмоций. И ни одной он не дал повода разочароваться. Он был добрым и понимающим, великодушным и мудрым, остроумным и зрелым. К тому же искусным любовником, без осечек. Это навсегда, думали они, поскольку видели, что и сам он так полагал. С ним они были в безопасности, ощущали себя любимыми, знали, что их ценят. Он разъяснял им — каждой в свой черед, — что дружба, а еще более любовь заменили ему семейные узы. И это звучало правильно. Они отбрасывали сдержанность, позволяли себе расслабиться, полностью отдаться всему хорошему. И ни одной не удалось рассмотреть тайные извилины его души, почувствовать мучительные корчи сомнения, пока не наступал день, когда у него не оставалось сил сдерживаться и отчуждение, словно рвота, выплескивалось наружу сквозь плотно стиснутые зубы. Они никогда не предчувствовали конца, пока разрыв не ударял по ним. «Как будто обухом по голове», по выражению его первой жены, Сары, мастерицы точных и красочных формулировок.
Ознакомительная версия.