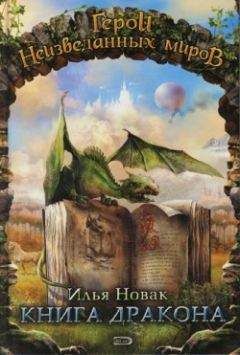Молодой пожарный стоял возле дома, устало прислонившись к стене. Он кивнул, когда синьор Сегузо поравнялся с ним.
– Мы его потеряли, – сказал пожарный.
– Вы сделали все, что могли, – мягко возразил синьор Сегузо. – Это было безнадежно.
Пожарный, покачав головой, поднял взгляд на «Ла Фениче»:
– Каждый раз, когда обрушивалась часть потолка, мое сердце рвалось на части.
– Мое тоже, – сказал синьор Сегузо, – но не надо винить себя.
– Меня всегда будет мучить то, что мы не смогли его спасти.
– Посмотрите вокруг, – предожил синьор Сегузо. – Вы спасли Венецию.
С этими словами старик отвернулся и медленно пошел по Калле-Каоторта к набережной Фондаменте-Нуове, где он садился на вапоретто, водный автобус, на котором добирался до своей стекольной фабрики на острове Мурано. Когда Сегузо был молод, милю до остановки вапоретто он проходил за двенадцать минут, теперь ему требовался для этого целый час.
На Кампо-Сант-Анджело он обернулся и посмотрел назад. К небу от земли поднимался широкий спиральный столб дыма – подсвечиваемый снизу прожекторами, он выглядел как страшный, зловещий призрак.
На дальней стороне площади он вышел на торговую улицу Калле-делла-Мандола, где столкнулся с человеком в синем рабочем свитере, мывшим окна кондитерского магазина. В этот ранний час к работе приступили только мойщики окон; они всегда здоровались с Сегузо, когда он проходил мимо.
– Ах, маэстро, – сказал человек в синем. – Мы сильно тревожились за вас. Вы живете так близко от «Ла Фениче».
– Вы очень добры, – слегка поклонившись, ответил синьор Сегузо и прикоснулся к полям шляпы, – но на самом деле, благодарение Богу, нам ничто не угрожало. Однако мы потеряли наш театр…
Синьор Сегузо не остановился и не замедлил шаг. В начале седьмого он уже был у стекольной фабрики и вошел в огромный литейный цех. Вдоль стен высилось шесть больших печей, обложенных керамическими блоками. Все стоявшие на изрядном расстоянии друг от друга печи горели, наполняя пространство неумолчным рокочущим ревом. Старик посовещался с помощником относительно красок, которые он хотел приготовить на рабочий день. Одни краски будут прозрачными, другие плотными. Сегузо потребовал множество красок – желтую, оранжевую, красную, пурпурную, умбру, кобальт, цвета золотой листвы, белую и черную – намного больше, чем заказывал обычно, но помощник не стал ни о чем спрашивать, а мастер – ничего объяснять.
Когда стекло было готово, он встал напротив открытой печи со стальной трубой в руке и невозмутимо и пристально присмотрелся к огню. Потом плавным изящным движением погрузил конец трубы в резервуар с расплавленным стеклом и принялся медленно вращать трубу, а потом извлек ее из расплава, когда на ее конце образовался грушевидный ком размера, достаточного для того, чтобы изготовить вазу, как он задумал.
Первая ваза серии из более чем сотни подобных ничем не будет напоминать то, что он делал до сих пор. На непрозрачном, черном, как ночь, фоне, он нанес завихрения лент, состоящих из извилистых ромбовидных форм красного, зеленого, белого и золотистого цветов, – ленты извивались, перехлестывали одна другую, окружая вазу устремленными вверх спиралями. Он не стал объяснять, что делает, но, когда сделал вторую вазу, все стало понятно без слов. Это был запечатленный в стекле пожар – языки пламени, искры, пылающие угли и дым, – как он видел их из своего окна, сверкающими сквозь решетки окон театра, отраженными в водной ряби на дне канала и взмывающими в ночное небо.
Пройдет не так много дней, и муниципалитет Венеции проведет расследование причин того, что случилось вечером 29 января 1996 года. Однако уже утром тридцатого, когда пепел «Ла Фениче» еще дымился, один выдающийся венецианец начал создавать свое собственное свидетельство произошедшего в стекле, свидетельство ужасающей красоты.
Глава 2
Пыль и пепел
Я бывал в Венеции больше дюжины раз, но очарован ею оказался сразу, когда двадцать лет назад впервые увидел город куполов и колоколен, плывущих вдали в туманной дымке и кое-где увенчанных мраморными статуями святых и позолоченными ангелами.
В последний приезд я, как обычно, сразу взял водное такси. Приблизившись к старому городу, суденышко замедлило ход; затем мы углубились в тенистую тесноту узкого канала. Двигаясь с почти державной медлительностью, мы скользили мимо нависавших балконов и побитых ветрами каменных фигур, установленных на раскрошенном кирпиче и потрескавшейся штукатурке. Я смотрел в открытые окна и видел расписные потолки и стеклянные люстры. До меня доносились обрывки музыки и разговоров, но не было слышно ни гудения клаксонов, ни визга тормозов; не звучал ни один мотор, если не считать приглушенного стука двигателя нашей лодки. Мы проплывали под пешеходными мостиками, по которым шли люди; волна от винта нашего такси накатывалась на покрытые мхом ступени, ведущие к воде канала. Эта двадцатиминутная поездка стала давно ожидаемым ритуалом перехода, перебросившего меня на три мили через лагуну и на пятьсот или тысячу лет назад.
Для меня Венеция не просто красива, я восхищаюсь в ней абсолютно всем. Однажды я даже придумал игру, которую назвал «фоторулетка». Цель игры – идти по городу и спонтанно делать снимки в самые разные моменты – например, услышав звон церковного колокола, увидев пробегающую мимо кошку или собаку, – чтобы посмотреть, как часто, стоя в любом месте, сталкиваешься с видом исключительной красоты. Ответ: почти всегда.
Меня, однако, безумно раздражало, что часто, перед тем как сделать снимок, мне приходилось ждать, когда из кадра выйдет очередная толпа заблудших туристов, и это несмотря на то, что я бродил по кварталам, куда туристы, как полагают, практически не заходят. Поэтому я решил приехать в Венецию в середине зимы: так я мог увидеть ее без досаждающего присутствия других путешественников. На этот раз мне представится возможность незамутненным взором взглянуть на Венецию как на живой работающий город. Люди, которых я встречу на улицах, будут настоящими венецианцами, местными жителями, идущими по своим делам, бросая рассеянные взгляды на знакомые им места, которые заставляли меня останавливаться на каждом шагу. Но когда я пересек лагуну в тот день в начале февраля 1996 года и сразу уловил едва заметный запах обгорелого дерева, я понял, что приехал в Венецию в необычный момент.
Первая полоса «Иль Газеттино» была целиком занята цветной фотографией Венеции с высоты птичьего полета. Это был панорамный снимок города, сделанный на следующий день после пожара; в центре были видны выгоревшие остатки театра «Ла Фениче», из черного кратера которого поднималась к небу призрачная струя дыма, словно из извергнувшегося вулкана. «Никогда больше! Никогда больше не будет таких фотографий, как эта», – обещала читателям газета.
Во всем мире поднялась волна сочувствия Венеции. Оперный певец Лучано Паваротти объявил, что даст концерт, все сборы с которого пойдут в фонд восстановления «Ла Фениче». Пласидо Доминго, не желая остаться в стороне, мгновенно принял вызов и заявил, что тоже даст концерт, но его концерт пройдет в базилике Сан-Марко. Паваротти сделал ответный выстрел, сказав, что и он выступит в соборе Сан-Марко, но петь будет один. Вуди Аллен, джаз-оркестр которого должен был открыть сезон в отремонтированном «Ла Фениче» в конце месяца, саркастически заметил, что пожар, должно быть, устроили «любители хорошей музыки», добавив: «Если они не хотели, чтобы я играл, то им надо было всего лишь сказать мне об этом».
Разрушение «Ла Фениче» было особенно тяжелой утратой для Венеции. Театр был одним из немногих важных культурных мест города, не сдавшихся чужакам. На спектаклях среди зрителей венецианцы всегда имели численное превосходство над туристами, поэтому местные жители испытывали к «Ла Фениче» особое чувство, даже те из них, кто никогда в жизни не бывал в театре. Городские проститутки собрали деньги и вручили мэру Каччари чек на 1500 долларов.