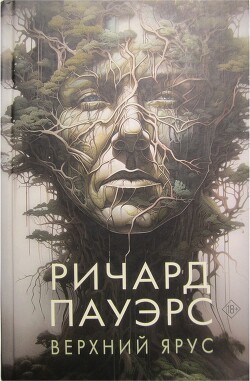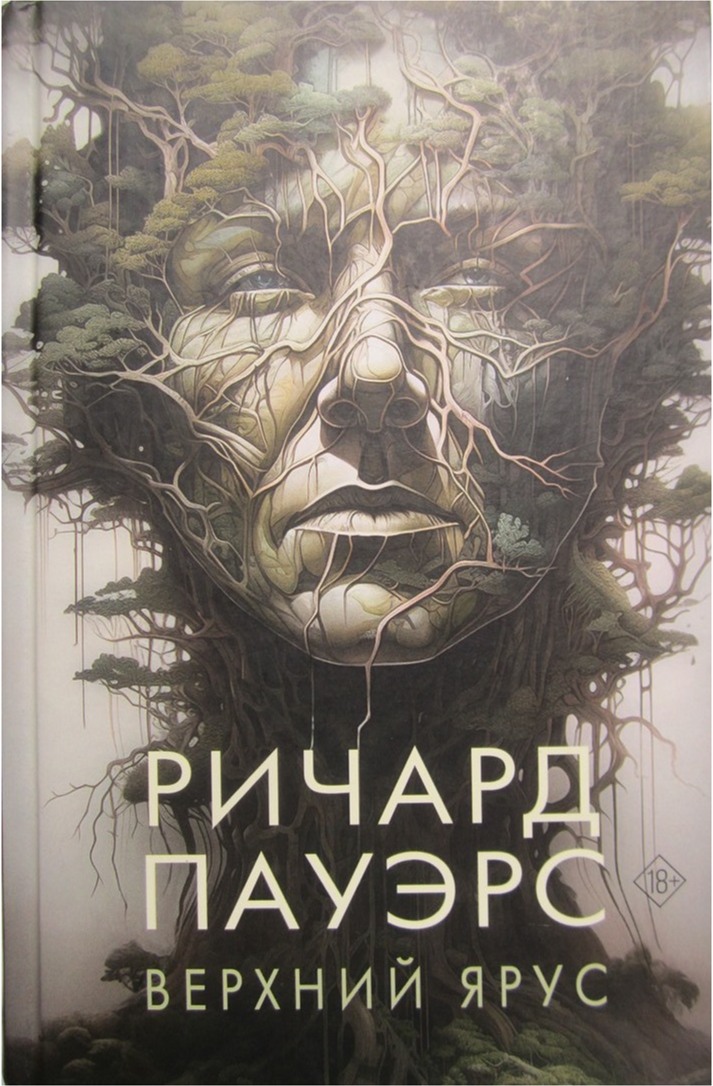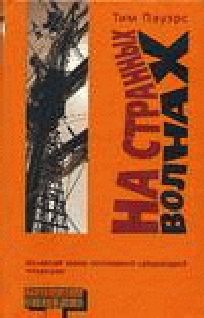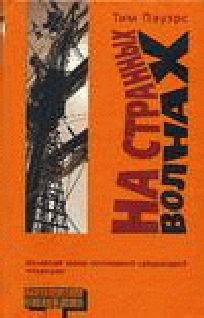Шоуин вскакивает с кресла и подходит к окну. Он смотрит на Нанкинскую дорогу, место, которое как обычно так и жаждет нажиться на безумии, что зовется будущим.
— Ты — спасение этой семьи. Коммунисты будут тут через шесть месяцев. И тогда все мы… Сын, взгляни фактам в лицо. Ты не создан для бизнеса. Ты должен вечно ходить в инженерную школу. Но твои братья и сестры? Кузены, тетки, дядья? Все они — торговцы хуэй с кучей денег. Мы не продержимся и трех недель, когда придет конец.
— Но американцы. Они обещать.
Ма Шоуин снова подходит к столу и берет мальчика за подбородок.
— Сын мой. Мой наивный сынок с домашними сверчками, почтовыми голубями и коротковолновым радио. Золотая гора сожрет тебя заживо.
Он отпускает лицо Сысюня и ведет его через зал к клетке бухгалтера, где открывает решетку, откатывает в сторону картотечный шкаф, за которым обнаруживается стенной сейф, о нем Сысюнь даже не подозревал. Шоуин вынимает три деревянные плоские коробочки, завернутые в атласную ткань. Даже Сысюнь может сказать, что в них: поколения доходов семьи Ма, от Шелкового пути до Бунда, переплавленных в наличную форму.
Ма Шоуин роется в пригоршнях блестяшек, секунду осматривая каждую, а потом бросая обратно на поднос. Наконец находит то, что нужно: три кольца, похожих на крохотные птичьи яйца. Три нефритовых пейзажа, которые он поднимают к свету.
Сысюнь охает.
— Посмотри на цвет!
Цвет жадности, зависти, свежести, роста, невинности. Зеленый, зеленый, зеленый, зеленый и зеленый. Из мешочка на шее Шоуин достает ювелирную лупу. Подносит нефритовые кольца к свету и вглядывается в них, как оказывается потом, в последний раз. Он передает первое кольцо Сысюню, который таращится на драгоценность, как на камень с Марса. Это извилистая масса нефритового ствола и ветвей в несколько слоев глубиной.
— Ты живешь между трех деревьев. Одно из них позади тебя. Лотосовое древо, сидрат аль-мунтаха, — древо жизни для твоих персидских предков. Древо на границе седьмого неба, которую никто не может пересечь. Но инженерам нет толку от прошлого, разве не так?
От таких слов Сысюнь в замешательстве. Он не может понять отцовского сарказма. Пытается передать ему первое кольцо, но тот уже занят вторым.
— Еще одно древо стоит перед тобой — Фусан. Волшебное шелковичное древо, растущее далеко на востоке, где находится эликсир жизни. — Он накрывает лупу ладонью и смотрит вверх. — Теперь ты отправляешься к Фусану.
Он передает сыну нефрит. На нем невероятно много деталей. Птица летит над верхушками листьев. С изогнутых ветвей свисают коконы шелковичных червей. Резчик скорее всего использовал микроскопическую иглу с алмазным наконечником.
Шоуин прижимает увеличенный глаз ближе к последнему кольцу.
— Третье древо вокруг тебя: Настоящее. И как само Настоящее, оно последует за тобой, куда бы ты ни отправился.
Отец передает сыну последнее кольцо, а тот спрашивает: — Какое древо?
Отец открывает следующую коробку Черные лакированные пластины поворачиваются на двух петлях, внутри оказывается свиток. Шоуин развязывает ленту на нем, ее уже давно никто не трогал. Свиток разворачивается, на нем серия портретов, морщинистые мужчины, чья кожа свисает сильнее, чем складки на одежде. Один опирается на посох в лесной росчисти. Второй смотрит сквозь узкое окно в стене. Третий сидит под изогнутой сосной. Отец Сысюня стучит пальцем по ней:
— Вот такое.
— Кто эти люди есть? Что они делать?
Шоуин всматривается в текст, такой старый, что Сысюнь не может его прочитать.
— Луохань. Архаты. Адепты, которые прошли четыре ступени просветления и теперь живут в чистой, знающей радости.
Сысюнь не осмеливается дотронуться до сияющей вещи. Его семья богата, конечно, — настолько богата, что многие из них уже ничего не делают. Но богаты настолько, чтобы владеть этим? Его злит то, что отец держал такие сокровища втайне, но Сысюнь не из тех людей, кто умеет злиться.
— Почему я ничего об этом не знаю?
— Теперь знаешь.
— Что ты хочешь я делать?
— Фу-ты, твоя грамматика просто чудовищна. Полагаю, твои учителя по электрике и магнетизму были куда компетентнее, чем учителя по английскому.
— Насколько старое, это? Тысяча лет? Больше?
Ладонь, согнутая в форме чашечки, успокаивает молодого человека.
— Сын: послушай. Семейное состояние можно беречь так или иначе. Это был мой способ. Я думал, мы будем собирать подобные вещи и хранить их. Когда мир вновь обретет разум, мы найдем им дом — музей, где любой посетитель сможет связать наше имя с… — Он кивает на архатов, играющих на пороге нирваны. — Делай с ними, что хочешь. Они твои. Может, ты даже узнаешь, чего они от тебя хотят. Главное, это не дать им попасть в руки коммунистов. Коммунисты подотрут ими задницу.
— Я взять это в Америку?
Отец скатывает свиток, с огромной предосторожностью оборачивает его ветхой лентой.
— Мусульманин из земли Конфуция отправляется в христианскую твердыню Питтсбурга с несколькими бесценными буддистскими картинами. Кого еще мы пропустили?
Он кладет свиток обратно в коробку и передает ту сыну. Взяв ее, Сысюнь роняет кольцо. Отец вздыхает и наклоняется, подбирая сокровище с пыльного пола. Потом забирает оставшиеся два кольца.
— Их мы сможем запечь в пирожные. А вот свиток… Тут придется подумать…
Они отправляют подносы с драгоценностями обратно в сейф, ставят на место картотечный шкаф. Потом запирают клетку бухгалтера, запечатывают офис и отправляются по лестнице вниз. Останавливаются на Нанкинской дороге, забитой деловыми людьми, несмотря на маячащий впереди конец света.
— Я привезу их обратно, — говорит Сысюнь, — когда моя школа кончится, а здесь все снова безопасно.
Отец смотрит на дорогу и качает головой. По-китайски, словно сам себе, он говорит:
— Нельзя вернуться к тому, что пропало.
С ДВУМЯ ПАРОХОДНЫМИ КОФРАМИ и хлипким чемоданом Ма Сысюнь садится на поезд из Шанхая в Гонконг. Там выясняет, что его сертификат здоровья, приобретенный в американском консульстве, расположенном в Шанхае, недостаточно хорош для корабельного медика, которому надо заплатить еще пятьдесят долларов, чтобы он снова осмотрел Сысюня.
«Генерала Мейгса» списали в резерв и перевели на Американские президентские авиалинии, теперь он — тихоокеанский пассажирский лайнер. Это маленький мир шириной в сто пятьдесят человек. Сысюнь получает койку на одной из азиатских палуб, в трех уровнях от дневного света. Европейцы наверху, на солнце, с их шезлонгами и официантами в ливреях, подающими холодные напитки. Сысюнь же принимает душ с десятком других людей, под ведрами воды, голый. Еда ужасная, ее трудно переварить — водянистые сосиски, мучнистая картошка, соленая толченая говядина. Сысюню наплевать. Он плывет в Америку, в великий институт Карнеги, получить степень по электротехнике. Даже убогие азиатские каюты — роскошь, в них не падают бомбы, никого не насилуют и не пытают. Он сидит на своей койке часами, сосет сушеные манго и чувствует себя королем всего сущего.
Они швартуются в Маниле, потом в Гуаме, на Гавайях. Через двадцать один день добираются до Сан-Франциско, порт прибытия в счастливую землю Фусана. Сысюнь стоит в очереди на иммиграционный контроль с двумя кофрами и потертым чемоданом, на каждом по трафарету английскими буквами нанесено его имя. Теперь он Сысюнь Ма — старая личность вывернута наизнанку, как изящный двухсторонний пиджак. Цветные пятна покрывают чемодан — наклейки с корабля, розовый флажок Нанкинского университета, оранжевый — Института Карнеги. Сысюнь чувствует себя беззаботным, таким американским, его переполняет любовь ко всем народам, кроме японцев.
На таможне его досматривает женщина. Она изучает бумаги:
— Ма — это имя, данное при крещении, или фамилия?
Сысюнь путается, поэтому отвечает:
— Нет христианского имени. Только мусульманское, хуэй.
— Это какая-то секта?
Он много улыбается и кивает. Она щурится. Сысюнь на миг паникует, думает, что попался. Он солгал насчет даты своего рождения, поставил 7 ноября 1925 года. На самом-то деле он родился в седьмой день одиннадцатого месяца — по лунному календарю. Перевод совершенно сбил его с толку.