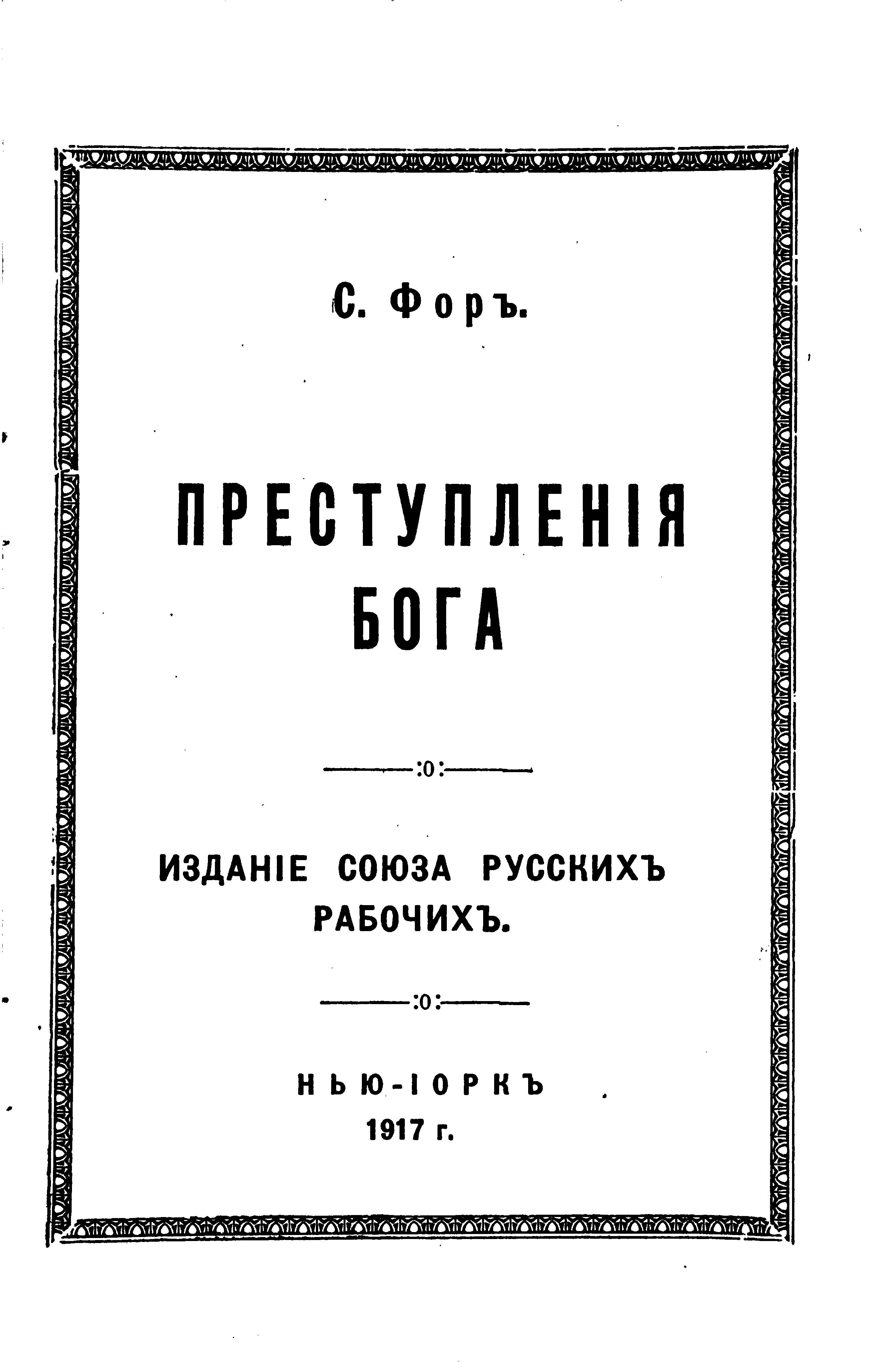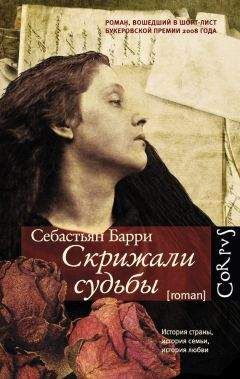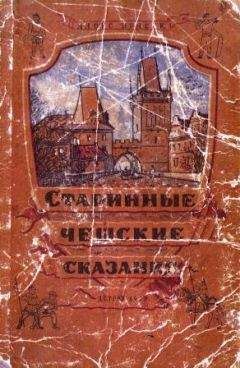Глава
3
Куда было деваться Тому? Неужто впервые в истории человеку, искавшему уединения, чтобы покончить с собой, помешал звонок в дверь? Нет. Но постойте, сколько раз к нему стучались за последние девять месяцев? А за эти сутки уже дважды. Весь его пыл и гнев улетучились, силы его покинули. Жизнь призывала его обратно к себе. Опять, опять. Тут ничего не поделаешь. Лучше бы ему умереть, умереть — найди он что-нибудь прочное, к чему привязать веревку, распрощался бы с миром на старомодный лад, по-ковбойски.
Неправда, конечно, но обдумать стоит. А правда в том, что он сам себя напугал чуть не до смерти. То, как он лихорадочно искал крюк, теперь ужасало его сильнее, чем тот кошмар, что довел его до этого шага.
А сейчас ужас миновал, и он твердо стоит на ногах.
Не приведи Господь рассказывать об этом Винни — не такой он эгоист. Не станет он искать у нее сочувствия. Дочь должна верить, что отец — сильный человек, это основа ее безопасности.
Самое трудное — дотащиться до двери. Длинный, бесконечный путь. Он чувствовал себя тем парнем с девчонкой на велосипеде из фильма “Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид” — нет, не таким же счастливым, просто тоже полз как сонная муха. И песенка эта дурацкая — Джун ее любила, одно лето без конца напевала, снова и снова. “Звонкие капельки дождя…” [6] 1970-й? Странно все же, после того, что с ними случилось, они все равно могли, еще как могли заниматься обыденными вещами, радоваться самому простому. Ходить в кино. Как же было хорошо! Кинотеатр “Павильон”. Автобус от Динсгрейнджа[7], ее огромная сумка, совсем не дамская. Я настоящая хиппи, говорила она, к черту ридикюльчики. Брюки-клеш. Обоих детей родила, когда ей было чуть за двадцать. И осталась по-девичьи стройной. После Джозефа, когда Том ее ласкал, он заметил у нее шрам, там, внизу. Это врач сделал разрез, потому что голова Джозефа не проходила. Шрам теперь напоминал фирменный знак, крохотное клеймо. А когда они сидели рядом в автобусе — ее тепло, тугие джинсы… Дух захватывало, как будто идешь по канату и срываешься — плашмя на землю, без страховки. Как же горячо она его любила, и он ее. Вечное обещание любви. И как он ею гордился, ведь посудите сами, она была одна такая. Другой такой красавицы он в жизни не встречал. В полутьме кинозала она и сама выглядела как кинозвезда — святая правда. Мать у нее тоже была красавица, это он знал — и здесь красавица-мать, как у Уилсона, — в кошельке она хранила фотокарточку. В этом лице ему почудилось что-то до странности, до боли знакомое, когда он в первый раз увидел — когда Джун ему показала, доверила надорванное фото, сидя с ним рядом под аркой в Дун-Лэаре. Они встречались уже несколько месяцев — головокружительных месяцев. Повезло ему. В одном месте бумага чуть пузырилась, потому что фото вырвано было из паспорта. Драгоценное. По сути вылитая Джун, смуглая красавица. Джун показала ему фото, он ее обнял, и она заплакала, уткнувшись в его мягкую рубашку. Тогда-то они и стали по-настоящему супругами. Джун редко столь бурно проявляла чувства. Это его отрезвило, потрясло, насторожило — в эту минуту важно было повести себя правильно. От этого зависело многое. И он взял в ладони ее лицо, такое теплое; на рубашке остались две влажные круглые отметины от ее слез. Даже глухой зимой лицо ее казалось загорелым. Он поцеловал ее в нос, и она засмеялась. “Правда, хорошенькая?” — спросила она доверчиво, голосом шестилетки. Столько ей было, когда она… “Красавица”, — отозвался он благоговейно, как семинарист, что впервые в жизни служит мессу. Достали мундштук, в него вставили сигарету. Где он сейчас, этот мундштук? А курила она как паровоз. Ее поцелуи были всегда с горчинкой от табака, ему нравилось. А когда ее язык оказывался у него во рту, он просто с ума сходил. Когда они, по обыкновению, целовались в кино, у него чуть не лопались брюки, все ныло. Боже! А все оттого, что она носила в себе целый мир — столько всего хорошего с плохим вперемешку. Все ее разговоры, излюбленные словечки, цитаты, песни — Кэт Стивенс, Бог ты мой, “О, детка, детка, этот мир безумный…” Мягкий лифчик под фланелевой рубашкой — а белье она выбирала в “Пенниз”, самое красивое, с сердечками. В те дни у него постоянно подгибались колени, так он и жил. Золотые волосы — Джун их называла “мышиными”. Тоже мне… Он дотащился до двери, чуть не забыв про веревку на шее, и скинул ее так ловко, что сам удивился. Освободившись, избавившись от веревки, уронил ее на пустую подставку для зонтов, сделанную из артиллерийской гильзы времен одной из мировых войн. Скрипнув, открылась дверь — на пороге стоял сам шеф, Флеминг. В парадной форме. Том так и обомлел. Зрелище было внушительное — серебро, позументы. Как его сюда занесло? Флеминг был толстый, вдобавок высоченный — сто сорок кило чистого полицейского веса! Внешность бывает обманчива, но только не у Флеминга. Уже совсем стемнело. Склон холма у Флеминга за спиной словно утонул, погрузился в плотную темную воду, лишь из-за высоких стен, окружавших замок, струились слабые отсветы невидимых окон. Том так вымотался, что даже не вспомнил, каким неряхой он выглядит. А Флеминг был такой отутюженный, в белоснежной рубашке, что Том невольно задумался, не вмешалась ли в дело нечистая сила. Тьфу ты, черт, который час? Он ведь только что смотрел в окно, как играет соседский мальчик, и был белый день.
— А-а, привет, Том, — сказал Флеминг. Он слегка картавил, как в центральных графствах. — Рад, что тебя застал. Не помешал?
— Помешать пенсионеру — ха! — ответил Том с искренней теплотой.
— А я здесь, в гостинице “Остров Долки”. Там все наши. Ежегодный банкет. Только что закуски подавали. Креветочный салат. Ну и гадость! Решил, загляну-ка я лучше к тебе, пока не отравился. Следующим номером — куриная грудка.
— Ничего себе! — Том засмеялся чуточку натянуто.
Почему Уилсон и О’Кейси ни словом не обмолвились, что с ним по соседству будет ежегодный банкет?
Ему всегда нравился Флеминг. Надо бы пригласить его зайти, но стыдно за бардак, царящий в квартире.
Много лет они с Флемингом были равными по званию, потом Флеминг его обошел, хоть и был на десять лет моложе.
— Прости, что не навещал тебя, Том, — сказал шеф, словно угадав его мысли. — Год выдался адский — сплошная мясорубка. То, что способен натворить ирландец, посрамит и дьявола, ты уж мне поверь.
Шеф пошутил — на взгляд Тома, удачно. Том ощутил прилив уверенности, словно вновь стал на миг прежним — призванным “наводить порядок”. Занятное было чувство.
— Значит, так, — сказал он, уже настроенный по-боевому, — погоди, я пальто накину, и прогуляемся вверх по склону? Я тебя хотел спросить кое о чем.
Флеминг ни слова не сказал, и лицо не дрогнуло, лишь кивнул.
— Что ж, хватай пальто, дружище, а я здесь подожду, — ответил он наконец, а Том стоял, плямкая губами по-рыбьи. — Времени вагон. Курицу я и так терпеть не могу.
Том вернулся в комнату. Курица, умершая от старости, картофель в кожуре толщиной с книжную обложку. Он подобрал с пола сырое пальто и через секунду вернулся. Флеминг встретил его спокойной улыбкой и непринужденным смехом, и они вышли из ворот замка и, свернув налево, устремились вверх по склону холма, где Том несколько часов назад плакал. Они давно приноровились к шагу друг друга, словно супружеская пара, и держались вровень. Флеминга, закоренелого холостяка, всегда называли одиноким волком, но на самом деле у него целая армия знакомых и друзей в Дублине и в Наване, где его родственники держат ковровую фабрику. К такому, как Флеминг, не придерешься. И никогда не поймешь, что у него на уме — весьма ценное качество для следователя любого ранга.
— Как дела, Джек? — спросил Том, рискнув назвать шефа по имени.
— Дела отлично, Том, лучше не бывает! В прошлом году, в январе, у Брид обнаружили рак в начальной стадии — и, представь, выкарабкалась!
Кто такая Брид? Том знать не знал, а спрашивать не хотел, чтобы не нарушить непринужденный ход беседы.
На улице было довольно противно — скользкий бетонный тротуар, свирепый ветер с моря, дома как будто обиженно съежились под его порывами. В такую ночь бродягам не позавидуешь. Да и вообще в Ирландии ночи не для бродяг. Том хотел кое о чем спросить Флеминга, а теперь никак не мог решиться — наверное, ветер всему виной.