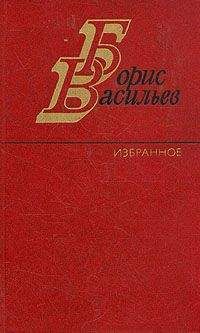— Ранним утром три русских богатыря выехали на разведку, — приглушенно и заманчиво начинала бабушка. — Они ехали долго, и мягкий ковыль бесшумно стлался под копытами их коней…
И васнецовские богатыри оживали в мерцающем свете. Они скакали по степи, высматривали врага, сходились с ним в жестокой рубке. И свистели стрелы, звенели мечи, ржали кони, стонали раненые…
— Ты видишь, видишь, пятеро врагов напали на одного Алешу Поповича? — горячо, убежденно спрашивала бабушка. — Ох, как ему трудно сейчас! Держись, Алеша, держись!
— Алеша! — во весь голос кричали мы оба. — Держись, Алеша!..
В упоении мы вопили на весь дом, но никто ни разу не сказал бабушке, что она забивает голову ребенку какими-то бреднями. Наоборот, когда кончалось наше «кино» — а кончалось оно неизменно победой Добра, — я врывался в большую комнату и с порога начинал восторженно рассказывать, что я только что видел, все с живейшим интересом и совершенно серьезно расспрашивали меня о битве трех богатырей или о чудесном спасении царевны.
Это — бабушка.
…Мы живем в центре, а я учусь в 1-м классе 13-й образцовой школы имени Бубнова, что напротив часов. И как-то входит невероятно радостная бабушка:
— Эля, это чудо! Я устроилась билетершей в пятнадцатую синагогу!
Бабушка путала многое по легкомысленности, трогательно пронесенной ею сквозь все три революции, германскую и гражданскую войны, нэп, коллективизацию и начало первой пятилетки. В помещении бывшей синагоги ныне располагался театр, который смоляне называли Пятнадцатым. Вот с этого бабушкиного заявления и началось мое знакомство с кинематографом, поскольку кинотеатр оказался ближе, чем школа.
Каждое утро бабушка брала венский стул, клала в плетеную сумку очки и очередной растрепанный роман и отправлялась на работу. Впрочем, она не любила этого слова и всегда говорила, что «идет на службу». Так вот, придя «на службу», бабушка распахивала настежь двери, ставила на пороге личный стул, надевала очки, сноровисто сворачивала цигарку из крепчайшей махры, доставала роман, прикуривала и… И тут следовало выждать, пока бабушка не исчезнет в парижских трущобах. Если момент угадывался точно, желающие должны были по возможности чинно миновать бабушку и раствориться в прохладном сумраке бывшей синагоги. Если же какой-либо недотепа слишком медлил или слишком торопился, бабушка строго смотрела на него поверх очков и укоризненно говорила:
— Пожалуйста, мальчик, не шумите. Вы мешаете читать.
Шли последние годы немого кино, и я знал о нем все. Я знал, какой фильм интересен, а какой — нет, какой актер играет превосходно, а кого постигла неудача, какую музыку следует исполнять при появлении батьки Махно, а какую — при сумасшествии Бейдемана. Я множество раз смотрел «Красных дьяволят», «Дворец и крепость», чей-то «Спартак» и чью-то «Куртизан-ку», какого-то «Наполеона», и неизвестно кем созданный боевик об англо-бурской войне, и сотни иных фильмов. Среди них плохих, естественно, было несравнимо больше, чем удачных, и вся эта киномакулатура не набила мне оскомины только потому, что я был приучен бабушкой относиться к кино как к импульсу для личного творчества, как к канве, на которой должна быть моя вышивка. Я не просто додумывал фильмы — я сочинял их заново, и поэтому любая ерунда вызывала во мне интерес. Удивительно, но это свойство воспринимать кино прежде всего как полуфабрикат — исключения, естественно, случаются — сохранилось до сей поры. Я и теперь с удовольствием пересказываю фильмы, но сколько раз пересказываю, столько вариантов и создаю, иначе мне просто неинтересно пересказывать, а зачастую и смотреть.
И все это — бабушка. Я мог бы вспоминать о ней бесконечно: она сама научила меня сочинять. Но я сочиняю на реальной основе, потому что бабушка была именно такова. Я лишь кое-что суммирую, чтобы проявить в родном мне характере черты определенного социального типа.
…Мама рассказывала, что бабушка, уже долгое время не узнававшая никого, перед самой кончиной открыла глаза, посмотрела на маму и строго спросила:
— Где Боря, Эля? Где мой Боря?
Шел март 1943 года, и я находился далеко от города Камень-на-Оби. Города, ставшего последней пристанью бабушкиного земного бытия…
Я пишу о многом и о многих, а о маме — сдержанно, и может создаться впечатление, что мне либо не хочется, либо нечего сказать о ней. Но это не так, я много думаю о ней и помню постоянно: она умерла в Татьянин день, на десять лет пережив отца. Умерла не от чахотки, грозившей ей в расцвете ее лет: она обменяла меня на смерть, всю жизнь помнила об этом и почему-то очень боялась, что я застрелюсь. Не знаю, откуда возник этот страх, но он был, он мучил маму, пока она еще хоть что-то сознавала. Она дала мне не только жизнь, но и ее обостренное восприятие, оттененное думами о смерти, которые все чаще посещают меня. Она дала мне прекрасный пример любви, самоотречения и преданности… Она… да разве можно перечислить, что дает мать самому любимому из своих детей?!
По рассказам знаю, что где-то в конце девятнадцатого, после очередного ранения, на побывку прибыл отец. Он много выступал с беседами о положении на фронтах, в том числе и в госпитале, куда мама пошла его послушать. Раненые задавали множество вопросов, среди которых был и такой:
— Товарищ командир, а на что живет твоя молодая жена и малютка-дочь, когда ты на фронте проливаешь свою геройскую кровь за наше общее счастье? Обещания получает по иждивенческому талону? Долой! Предлагаю резолюцию…
Приняли резолюцию: «Обеспечить жене красного командира Елене Васильевой работу и трудовое питание при раненых геройских бойцах…» Но работой обеспечивали совсем не геройские раненые бойцы, а бывшие военные чиновники, криво усмехавшиеся при упоминании о красном командире. И маму обеспечили инфекционным бараком, а через месяц она заболела оспой. По счастью, она много раз делала прививки, болезнь прошла в легкой форме, оставив на очень красивом лице мамы несколько оспинок на память о гражданской войне. А получал ее дядя Карл, пришедший с одеялом и приятелем.
— Легкая она была, как спичка, — любил рассказывать дядя Карл, отпуская воду на водокачке. — Такая была легкая, что я никому ее не отдал и нес от госпиталя до дома без пересмены.
У мамы был нелегкий характер, но и неласковая жизнь, на которую она никогда не жаловалась. Мама рассказывала мне многое, куда больше, чем отец, но — странное дело! — я никак не могу представить ее молодой. Легко представляю молодого отца, с натугой — молодую бабушку, но мама для меня всегда немолода. И может быть, поэтому мне с особой болью думается о ней…
…О, как неистово хочется вернуться в детство, хотя бы на полчаса! Увидеть отца, маму, бабушку, обнять их, попросить прощения и непременно успеть сказать:
— Почитай мне вслух, мама…
Учился я огорчительно и потому, что часто менял школы, и потому, что никогда не был усидчив, и потому, что отличался памятью, обладал изрядным запасом слов и быстро наловчился рассказывать не то, о чем меня спрашивали, а то, что я знал. Скажем, если вопрос касался Америки, я старался соскользнуть либо на Колумба, либо на Кортеса, либо на Пизарро. А рассказывать с бабушкиной легкой руки я навострился, на ходу сочиняя то, чего не было, но что могло бы быть. Это позволяло кое-как перебираться из класса в класс, а причиной всему была моя почти пагубная страсть: я читал. Читал везде и всегда, дома и на улице, во время уроков и вместо них. Читал все подряд, в голове образовалась полная мешанина, но постепенно все сложилось, я вынырнул из литературной пучины и смог оглядеться.
Годам к восьми я все знал о «Пещере Лейхтвейса» и тайнах тугов-душителей, о сокровищах Монтесумы и бриллиантах Луи Буссенара; я скакал за всадником без головы, отбивался от коварных ирокезов, рыл подземный ход вместе с Эдмоном Дантесом. Моими личными друзьями были Ник Картер, Джон Адаме и Питер Мариц, юный бур из Трансвааля. И обо всем этом я часами рассказывал в темных подвалах приятелям-беспризорникам, упиваясь не только самим рассказом, но и возможностью прервать его на самом интересном месте:
— Пить охота.
И не признающая никого и ничего вольница бросалась за водой без всякого промедления. Я на практике познал то, что много позднее вычитал у Ницше: «Искусство есть форма властвования над людьми…»
Мы привыкли третировать литературу, так сказать, «низкого пошиба» куда с большим усердием, чем подобное ей в кино, на телевидении или в театре. Такова традиция, признак хорошего тона и т. п. Я все понимаю, я не стремлюсь быть оригинальным, но я хочу отдать должное этой, «низкого пошиба». И не только потому, что она учит уважать книгу и — выражаясь толстовским языком — «полюблять» ее, а потому, что она чиста в истоках своих. В ней всегда торжествует добро, в ней всегда наказуем порок, в ней прекрасны женщины и отважны мужчины, она презирает раболепство и трусость и поет гимны любви и благородству. Во всяком случае, такова была она, эта литература, в дни детства моего.