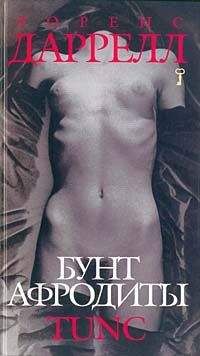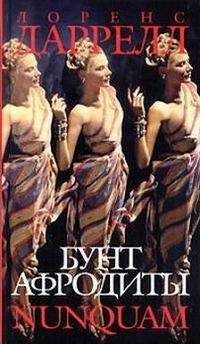— Я всегда чувствовал, что могу поговорить с вами как человек с голосом по телефону, — ответил я.
— Ирония всегда была твоей сильной стороной, Чарлок. Всегда.
— В любом случае теперь вы знаете о моем решении. Джулиан негромко прокашлялся и помолчал; когда он снова возобновил атаку, голос его был успокаивающим, задумчивым, мягким.
— Хотелось бы знать, хорошо ли ты обдумал своё решение, — полагаю, что нет, с твоей стороны это просто порыв великодушия.
— Напротив: это плод долгих размышлений.
— Гм. Учёл ли ты договор о сотрудничестве с фирмой? Это противоречит его условиям, а договор, насколько я помню, действителен по крайней мере в течение ещё двадцати лет.
Двадцать лет! Мороз прошёл у меня по коже. Да, я прекрасно помнил об этом — но когда тебе говорят об этом вот так, в лоб, бросает в дрожь.
— Ничего не выйдет, — сказал Джулиан наконец-то не сонным голосом. — Ты получишь дорогостоящую и утомительную судебную тяжбу, только и всего. И проиграешь, а фирма выиграет. Ты связан контрактом по рукам и ногам.
— Ну, это мы ещё посмотрим, — возразил я, чувствуя, однако, что мой голос звучит неуверенно.
— Ты же знаешь, не правда ли, — вкрадчиво продолжал Джулиан, — что существует большой список благотворительных акций, которые мы финансируем полностью или частично? Фирма приветствует, когда её сотрудники жертвуют в благотворительный фонд, — почему бы и тебе не последовать их примеру? Ты мог бы, если пожелаешь, перечислять весь свой оклад на эти цели. Попроси Натана показать тебе книгу со списком тех, кому мы помогаем.
— Я уже видел её. — Я действительно заглянул в книгу. Это был громадный том размером с Библию, отпечатанный на веленевой бумаге, где перечислялись все, кому фирма оказывала поддержку.
— Так что, — спросил Джулиан, — тебя это не устраивает?
— Нет.
— Почему? — В голосе Джулиана послышались сварливые нотки.
— Потому что эти деньги не облагаются подоходным налогом — фирма и тут ловчит.
— Понимаю! Господи, да на тебя не угодишь! — Он долго молчал, пыхтя сигаретой, потом поинтересовался: — все-таки какова первопричина твоего беспокойства, Чарлок, что послужило толчком?
— Просто настал такой момент, когда я должен совершить поступок, пускай даже незначительный, но самостоятельный, чтобы продолжать жить.
— Должно быть, это объясняется твоим неправильным представлением о характере фирмы. Во всем, что ты говоришь, я чувствую забавный моральный уклон — потенциальную критику, которая в целом не может быть справедлива. Может, ты просто фарисей, хочешь быть святее Папы?
— Нет, хочу, для разнообразия, быть святее денег.
— Я пытаюсь сказать, что фирма не является ни просто продолжением наших моральных достоинств, ни порождением злой человеческой воли, ни духа алчного торгашества. Все гораздо серьёзней. Я имею в виду, что это существовало всегда в той или иной форме. По крайней мере, я так считаю.
— Софистика! Фирма — это не мир.
— Я не уверен. Не говорю, что это что-то приятное или весёлое, но это факт природы, человеческой природы. Нельзя игнорировать фирму, Чарлок.
— Природы!
— Она должна отвечать некой глубинной невысказанной потребности человеческой души — потому что таковая существует всегда. Оставим в стороне эмоции. Она сама по себе не зло, а просто нечто промежуточное, repoussoir Такой мы её создали…
— То есть раб уже рождается в цепях, так?
— Да. Некоторые способны освободиться, но таких очень мало. Я не смог. Если веришь в свободную волю или в судьбу, например…
— Кончайте с проповедями, — сказал я.
— Ладно, тогда кто заставлял тебя поступать на фирму?
— Никто, я сам захотел. По неведению.
— Не совсем так: все было ясно с самого начала, глаза у тебя были открыты.
— Как у трехдневного котёнка.
— Не понимаю, как можно хотеть давать сейчас задний ход.
— Даже заключённых освобождают до срока за хорошее поведение.
— Но, черт побери, в одно прекрасное утро ты можешь проснуться руководителем фирмы или большей её части; Иокас и я, как ты знаешь, не вечны.
— Боже упаси!
— А! — раздосадовано крякнул Джулиан, но тут же смягчил тон. — Фирма имеет гибкую структуру, — сказал он с лёгкой укоризной, — Несмотря на свои размеры, она весьма уязвима, это как узел, от которого тянутся нити по всему миру. Но она держится на одной-единственной тонкой опоре — и это спинной хребет всего дела — святости договорного обязательства. Если ты отречёшься, то нанесёшь удар в самое сердце фирмы, она начнёт рушиться. Естественно, фирма постарается защититься, как всякий иной организм.
— Говорю вам, я должен это сделать.
— Ты кончишь тем, что у тебя разовьётся мания преследования — желание облагодетельствовать домохозяек не стоит этого.
Я заскрежетал зубами.
— Так или иначе, — продолжал он, — непосредственно в данный момент фирма не может оказать на тебя никакого давления, но она, безусловно, будет противодействовать любому действию наподобие того, что ты наметил. Странно, что ты до сих пор, по-видимому, воспринимаешь её в личностном аспекте; но она давно уже нечто большее, чем личности, которые её создали, — Мерлин, Иокас, я: мы просто её прародители. Теперь фирма функционирует самостоятельно, движется в направлении, заданном первоначальным толчком, которого ни ты, ни я не в силах изменить. Естественно, тот, кто не с ней, тот против неё, и так далее. В другие эпохи это могло бы принять иные формы. Но человек остаётся каким был, не изменяющимся, не обучающимся, и фирма отлита по его образцу, твоему образцу, Чарлок! Спрашивай — и скажут! Ткни старую свинью палкой, и она захрюкает. — Он помолчал, потом покорным шёпотом, так, что я едва разобрал, проговорил: — А Иоланта умирает? — Послышался вздох, он говорил сам с собой. Последовала долгая пауза.
— Ты ещё здесь, Чарлок?
— Да.
— По-моему, все это у тебя от преувеличенного чувства собственной значимости, усугублённого успехом; подобные чувства всегда ведут к необдуманным суждениям морального свойства. Ты ничего не добился в чистой науке, а жаждешь этого, — но тут нет нашей вины. И копишь раздражение против фирмы, внушая себе, что погряз в низменной работе, что дело в исследованиях и доводке опытных образцов, в том, что твои идеи тебе не принадлежат.
— А результаты?
— Дорогой мой, я ничего не могу поделать, никто не может. Да, мы можем кое-что слегка подкорректировать: усилить, добавить сноску, подчеркнуть. Но колесо крутится, несмотря ни на что. Пора повзрослеть, Чарлок. Фирма не остановится.
— Вы меня все же не убедили, — мрачно сказал я. — Все это — ваше предвзятое мнение.
Так оно, конечно, и было; и в то же время — нет. С одной стороны, не лишено смысла, с другой — бессмыслица. Я ещё не сумел разобраться в главном пороке наших препирательств. Забавно также, что я считал его — лично Джулиана — не виновным в намерении обмануть меня. Он верил в то, что говорил, значит, это было правдой — не для меня, но для него. Возможно, правдой даже объективно? Я лихорадочно думал. Головокружительное чувство провала было столь сильно, что стало нечем дышать. Я стоял и хватал ртом воздух. Слышно было, как Джулиан положил трубку рядом с аппаратом и отошёл на несколько шагов, потом в тишине раздались звуки музыки — начальные такты шумановского концерта.
— Как человек честный, — сказал он, — питающий отвращение к громким обещаниям, я не знаю, что тебе сказать.
Многим ли из высказанных им убеждений он останется верен, задавался я вопросом.
— Что с Иолантой? — резко спросил я. (Как говорит Маршан, убеждения — это просто пони: на них ездят, пока не надоест, а потом привязывают к дереву и трахают.)
— С Иолантой? — медленно переспросил он. — А что с Иолантой?
В своём словно пьяном состоянии я не мог удержаться от новых угроз.
— Сентиментальные грёзы, — сказал я. — Никто бы не поверил своим глазам, увидь он её портрет в вашей квартире.
Джулиан невидимо улыбнулся.
— Актриса! — сказал он и добавил: — Улыбка, заставляющая привстать на стременах.
— Я даже могу уехать из Англии, — сказал я, — где национальная пассивность уже дошла до коры головного мозга.
Джулиан хмыкнул. Неожиданно его голос стал резким, в нем слышалась ледяная ярость:
— У тебя есть лишь один выход — перестать что-то изобретать, совсем; уйти в отставку и жить на то, что выиграл — не скажу, что заработал, потому что без нас ты сейчас был бы без гроша. Вообще выйди из игры. — Тут его голос вновь изменился, стал низким, сострадательным, нежным, спокойным. Он прошептал, словно обращаясь к самому себе: — Кто измерит чувства влюблённого, который вынужден сидеть и смотреть, как неумолимо разрушается тонкий ум и прекрасное тело? Нам надо восславлять людей, сжигающих нас на костре.