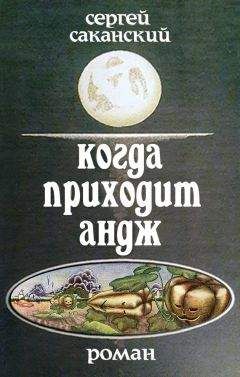Ознакомительная версия.
В экспедиции наш герой влюбляется в девушку, черноглазую, загорелую палеонтологиню, родом из Ашхабада и зовут ее — Гюльчатай.
Тут-то и начинаются основные перипетия сюжета: ветреная Гюльчатай принадлежит другому, герой страдает. Добившись, наконец, Гюльчатай, он начинает подозревать, что она его сводная сестра, но вскоре находит убедительные доказательства противному. Однако, в один прекрасный день Гюльчатай предъявляет свои собственные аргументы: все-таки она и есть — та самая Гюльчатай, что становится для нее поводом или причиной немедленно изменить нашему страдающему герою…
И так далее. Стержень тут не важен. Кружение по орбите вопроса — сестра или нет — также бессмысленно, поскольку, если этот роман существует, то никакие убедительные доказательства никого не убедят в том, что Гюльчатай — не сестра.
Сестра…
Вся суть этой жизненно-литературной ситуации заключается в попытке разрешить вопрос: почему герои, преодолев столько километров, попадают в одну точку? От этого прямо таки и веет нарочитостью, вымышленностью, дешевой латиноамериканской кинооперой…
Рассуждая, герой приходит к странному выводу. Он анализирует свой путь (с начала романа) и вдруг с ужасом понимает, что все его повороты, все внезапные и неожиданные решения были подчинены какой-то неведомой, лежащей за пределами бытия силе, и именно эта таинственная сила руководила его поступками, пока не привела в единственно возможное место — к Гюльчатай.
В принципе, роман этот — фантастический, только фантастика в нем, хоть и не слишком глубоко, скрыта. Так, например, реальность романа размывается: невозможно вычислить год его действия, так как бытовые детали — от одежды героев до цен на продукты — колеблются, принадлежа то шестидесятым, то восьмидесятым и прочим годам. То же касается и разговоров, и поведения героев: то спор между физиками и лириками, то невнятный политический толк о перестройке. Мы наблюдаем то робкие, тайные любовные воздыхания, в стиле шестидесятых, то обильный сексуальный завал девяностых.
Фантастика романа проявляется и иначе, гораздо более зримо, когда герой, ревнуя возлюбленную Гюльчатай то к одному, то к другому своему товарищу (надо сказать, не без оснований, поскольку Гюльчатай, мягко скажем, все же шлюха) представляет на месте этих счастливых товарищей — себя, да так явственно, зримо, что почти чувствует себя ими, как бы надевая на свой череп их лица, и только этим созданием нового варианта бытия спасает себя от мучений.
Отсюда — вполне закономерные и обоснованные перетекания авторского «Я» от одного персонажа к другому, с особыми историями этих персонажей, фантастическими, потому что все они — вымышлены изначальным, коренным «Я».
Так, например. один из сотрудников экспедиции, Мохаммеддыев Абдулла, предстает, через авторское «Я», истинным, непримиримым мусульманином, который, не считаясь с законами, позволяющими иметь только одну семью, тайно содержит гарем у себя в Чарджоу и там, на берегу быстрой и прекрасной Амударьи, проводит безумные ночи со всеми своими женами…
Авторскому «Я» принадлежит значительная часть текста, в начале и середине романа, но в последней его трети оно теряется среди прочих «Я» других персонажей, выступая на равных с ними. Кстати, именно это обстоятельство и позволяет показать в романе, написанном от первого лица, смерть главного героя, что, если вы помните, уже не первый случай в практике писателя.
Приведу небольшой отрывок из романа, чтобы дать вам возможность насладиться неповторимостью его стиля.
«…Мы молча шли по пустому, темному солончаку, столь же ровному, как и море, в которое он переходил двумя верстами впереди. Лучи всех наших фонариков безобразно кружились и перемешивались, шарили по уродливой, черепашьей поверхности земли, или, может быть Земли, или даже лучше — Глины. Вот так же и наши судьбы — пересеклись теперь на растрескавшейся поверхности планеты… Кричали удоды.
Я скошу глаза направо и увижу грустный горбоносый профиль Абдуллы и вспомню его вчерашние слова, и подумаю, что, может быть, и вправду глубоко в его ушах сидят черные пауки ревности, совсем реальные, настоящие живые пауки, совсем черные… Нет, я не скошу глаза — ни направо, ни налево, где увижу тщедушного Петруху, тщетельного, без всяких изощренных восточных метафор, без пауков, просто пожираемого ревностью, как русской водкой. Нет, я буду смотреть вперед, где в шести шагах бодро, такой удобный для дуэльного выстрела, в перекрещении наших шарящих взглядов идет, шагает высокий и стройный, одергивая подол гимнастерки Сухов, а рядом, временами невзначай касаясь его бедром — Гюльчатай.
Мы шли. Кричали удоды.
Где-то позади, в заплеванном клубе Пенджента, зубастый киномеханик укладывал в ящик жестяные банки с пленкой, и фильм, который мы только что увидели, теперь уже свернутый в пружину, всегда готовый ожить, будто бактерия в цисте, также, помимо всего прочего, преследовал и мучил нас в этой черной степи.
Это был фильм ужасов, тяжелый давящий кошмар, и назывался он “Рука”. Это был фильм о человеке, который случайно оказался в центре кошмарных, гнусных событий, узнал отвратительную тайну, и в его безобидное существование легко, как пьяница сквозь стекло, вошла сама Смерть.
Главный герой, простой клерк, нелепый, рассеянный, обремененный некрасивой и неумной женой да двумя детьми, сам некрасивый, неумный, скопив ценой лишений приличную сумму — жене шубу купить, не то чтобы очень шуба нужна — они ведь в теплых краях живут — а так надо: все покупают женам шубы, и я своей падле в лепешку разобьюсь но шубу куплю…
Но внезапно он принимает решение, пожалуй, единственное решение в своей жалкой жизни: шуба подождет, а на денежки эти кровные, я в круиз поеду, один.
И отправляется этот несчастный в какой-то фантастический, с точки зрения географии совершенно нелепый круиз — то ли по Средиземному морю, то ли вокруг Европы, но вот беда: в первый раз в жизни еду без жены, без детей этих, но от самого себя-то разве уедешь, и как всегда — не везет, влип я в историю, по уши влип…
В своем мешковатом костюме, с ширинкой ниже колен, ходит он по чудесным, словно нарисованным городам, фотографирует достопримечательности, его преследует местная проститутка, он хочет ее безумно: я хочу тебя, но боюсь, они следят за мной, и видишь ли, яйца оторвут, если узнают, ведь ты, южная, чужая, не понимаешь, ах, какая темпераментная, не знаешь — ведь в моей далекой стране всегда так: если турист что-то там чего… Сразу в подвал, пытать, и наконец — яйца оторвут…
Ах, я подлец, подонок, хоть я и войну прошел… Не потому, сказал я ей, проститутке, что комитета боюсь, а потому сказал я ей, грязной потаскухе, что я советский человек, что я моральный облик, у меня вообще никаких яиц нету…
И я иду по Стамбулу…
Наконец, попадается бедняга в лапы международной мафии, случайно произнеся пароль, и — перепутав несчастного с настоящим уголовником — ставят ему на руку гипс, весь полный золота и бриллиантов, и этот дурак, опять же, снедаемый желанием сдать все еврею-скупщику с улицы Карла Маркса, несется в КГБ, все рассказывает, и тут-то и завязывается интрига: наш герой попадает в щель между молотом и наковальней, между преступниками и преступниками в законе, между контрабандистами и теми, кто их ловит.
За гипсом идет охота, а органы используют его в качестве живца… Кегебисты соблазняют его большими деньгами, и он ходит по городу с огромной пачкой, где хватило бы не только на шубу… Он все щупает, покупает, его пожирает страх, он ежеминутно ждет убийства, он представляет, как они, ни о чем не думая, ничуть не церемонясь, оторвут мою руку, с мясом, с костями, на что им какой-то человечек, им гипс нужен, тем и другим, гипс — и больше ничего.
И вот я сплю на своей узкой кроватке, один, а он ползет, в его пальцах ножницы…
И тогда рука превращается в символ, в некий неотвратимый летающий жупел, она живет самостоятельной жизнью, отделяется от туловища живца и нападает на его убийцу. Сцена снята в багровых тонах, лицо убийцы искажается ужасом — наезд — рука подбирается к воротнику, душит — крупный план, деталь — живец хохочет, пляшет на одеяле в кальсонах, рука царапает мои щеки, разрывает рот, и вот уже глаз лопается, словно гнилая виноградина, я просыпаюсь — холодный пот, память, отчаяние…
Мы шли по степи и пришли.
Я лежу на раскладушке в палатке, со мной под брезентом еще семеро, брезентовые души — наверное, им всем снится наш коллективный поход в кино, эта рука… Я вытягиваю шею, как любопытный гусь, и смотрю в сухой угол. Койка Сухова пуста — Гюльчатай. Далеко в черной степи кричат удоды…»
Удивительная проза, не правда ли? Мой скромный, не очень-то любящий говорить о себе дядя, пожалуй, и сам не сознавал ни собственной ценности как стилиста, ни своего места в истории мировой литературы. Остается только пожалеть, что роман не был написан, хотя, в наше время, когда в мире с каждым годом становится все меньше людей, читающих книги, может быть, достаточно только изложить замысел…
Ознакомительная версия.