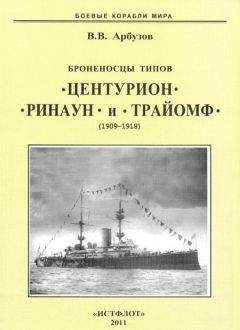— Пойдем, пойдем, лейтенант, — заторопил Хохлов нетерпеливо.
Они миновали общий коридор с его кухонными запахами керосина и супов, загроможденный у стен велосипедами, чемоданами и ящиками, узкий от висевших на гвоздях корыт и тазов, вошли в тесную комнату — гардероб с зеркалом, кровать, стол, три стула, старая детская коляска с сохнущими на ней пеленками — неприютное, унылое жилище Хохлова, его семьи.
Но рябоватое лицо Хохлова не выражало ни смущения, ни вины за эту бедную его неустроенность, оно было весело, возбужденно, он швырнул кепчонку на кровать, заговорил, взъерошивая черные, цыганские волосы:
— Ну, не ожидал! Без всякого предупреждения! Как это ты решил заехать? Садись, садись, вот сюда, к столу! Как живешь-то, лейтенант? Не женился? Что с рукой? Работаешь?
— Нет.
Но Александр отмечал про себя, что Хохлов довольно-таки похудел, сдал лицом, а пиджак был кургуз, не по росту, большие руки торчали из коротковатых рукавов — костюм был, несомненно, с чужого плеча, как видно, купленный на рынке по дешевке. И не в меру исхудавшее лицо Хохлова, и эти в куцых рукавах торчащие руки, которые делали несвойственные ему суетливые движения — выставляли на стол из гардероба, служившего, похоже, буфетом, начатый батон белого хлеба, банку американской тушенки, два стакана, блюдечко с сахаром.
— Не работаешь? А чем живешь? Фронтовые-то кончились! — говорил Хохлов, как бы оглушенный встречей, не дожидаясь ответов, и вместе с тем искал что-то на полках в гардеробе и не находил. — А я, как видишь, женился и вкалываю по новой профессии: был учеником, теперь слесарь-инструментальщик на Кировском. На карточки с натяжкой хватает, да вот пацанок появился — консервные трофеи бы с немецких складов не помешали! Помнишь Котельниково и Житомир? — Он засмеялся так искренне при воспоминании об оставленных немецких продуктовых складах в Котельникове и Житомире, так по-молодому солнечно засверкали зубы, что Александр мгновенно увидел его в белом полушубке, красиво отороченном мехом, в кубанке, с черной лакированной кобурой парабеллума на левом боку — лихой помкомвзвода Хохлов с каменным голосом, от которого шарахались лошади.
Но ни кубанки, ни полушубка, ни парабеллума не было на старшем сержанте, лишь смех и зубы на минуту вернули прежнего помкомвзвода. А он все рылся на полке гардероба среди пустых стеклянных банок, среди пакетов, черные волосы растрепались, и как-то чуждо, бледно, как нечто унижающее забелела круглая плешь на макушке Хохлова.
— Да чтоб тебя бесы разорвали! — выкрикнул раздосадованно Хохлов, оглядываясь и извиняясь потерянным лицом. — Четвертинка была карточная… была как энзэ — не найду! Как сквозь землю провалилась, стерва сорокаградусная! Ты вот что, лейтенант, погоди минут десяток, посиди, отдохни, я сбегаю сейчас в коммерческий, тут, за углом! Я сейчас! Погоди! Поговорить хочу с тобой, надобно не на сухую! И не чаял встретиться! Никого нас почти не осталось! Рад я тебе, ой как рад!
Он с суматошным и жалко-суетливым видом, какого не хотелось видеть Александру, принялся хлопать себя по карманам пиджачка, проверяя, должно быть, наличие денег, и Александр быстро вынул несколько бумажек из кирюшкинских купюр, положил на стол.
— Возьми. Купи, что надо. Я ведь не пью водку, ты знаешь.
Скулы Хохлова приняли оттенок кирпичного румянца, мелкие рябинки проявились и побелели.
— Не суди, лейтенант, трешка в кармане, все пенензы идут на пацаненка! — заговорил он с неожиданной фронтовой бесшабашностью. — Беру у тебя личный кредит с возвратом! У меня Лиза дома главный бухгалтер, все подсчитывает до копья!
Он подхватил деньги со стола, накинул несусветную свою кепчонку на черноволосую голову, на пороге обнадеживающе крикнул:
— Я сейчас, в один момент! Айн момент, лейтенант, битте шён!
Александр, внутренне сжимаясь от непрекращающегося озноба, отчего-то подумал, что нездоровье возбуждала в нем эта полукруглая комнатка, разрушенная войной, пропитанная сладковатой кислотой пеленок, со старым гардеробом, сиротливой лампочкой без абажура, свисающей на шнуре с потолка. Крохотная комнатка без солнца (оно лежало на тротуаре за окном), когда-то, в далекие годы былого петербургского величия, была, возможно, швейцарской, а теперь давила неприютом, жалостью к Хохлову, к его больному ребенку, к его жене, робенькой Лизе, и это чувство отвергало надежду, что он мог потеснить семью Хохлова, тоже требующий маломальского ухода. Он подумал об этом и непроизвольно встал.
«О чем мы будем говорить с Хохловым? О том, что было, пожалуй, счастливым в нашей жизни. Об этом потом, потом, когда все будет иначе. Рассказать Хохлову, что произошло со мной? Но зачем? Это ничего не изменит. Не могу понять, дорогой лейтенант Ушаков, зачем ты приехал сюда? Сидишь и ждешь Хохлова с водкой, которую не пьешь? Нет, нет, обидится он или не обидится, но сделать надо так, как надо сейчас…»
Он достал пачку кирюшкинских денег, положил несколько бумажек на стол, оторвал уголок от газеты и найденным на подоконнике химическим карандашом написал: «Нет времени. Срочно надо уезжать. Деньги тебе пригодятся. Вернешь, когда будут. Не обижайся. Жму руку. Увидеть тебя был рад. Мы еще живем. Александр».
Когда он, выходил и поискал глазами трамвайную остановку, что-то зыбкое, как незаконченное головокружение, появилось при повороте головы, но это скоро прошло.
По набережной он дошел до Летнего сада. Нева древне взблескивала, овевая порой северным воздухом, за ее свинцовым пространством оставался Васильевский остров, недвижной иглой стоял в синеве шпиль Петропавловской крепости, на дальних мостах играли с солнцем окна переползавших трамваев — и вновь было ощущение чего-то стороннего, немосковского, и Александру хотелось только одного — сесть где-нибудь на скамью в Летнем саду, закрыть глаза и ни о чем не вспоминать, не думать в успокоительном беспамятстве.
«Как хорошо, что я не остался у Хохлова. Это была бы мука…»
Он вошел в Летний сад, безлюдный в эту пору дня, лишь стайка детей возилась, бегала с мячом вокруг скамьи под наблюдением строго одетой немолодой дамы. Он перешел ветхий, еще не отремонтированный после войны мостик над овражком, засыпанным по дну прошлогодними листьями (от них приятно тянуло земляной гнилью), ступил в сумрак деревьев, обдавших летним покоем, благодатной тишиной начавшегося зноя. Ему почудилось, что его поглотило ликующее царство нерушимого величия, как огромный лесной дворец, куда не доносились городские звуки, сохранявший на мраморном полу прохладу, а вверху, будто через высокие щели окон, радиусами расходились между колоннами жгучие лучи.
Он шел по тропинке этого зачарованного своей тишиной лесного дворца, и тут бессонная ночь в поезде начала сказываться ватной вялостью во всем теле. И он нашел скамью, уже сухую, нагретую, откинулся затылком, и дремота стала наплывать на него лиственной духотой. Он упал, в мягкую яму, без тревожных сновидений, без боли — сознание мигом отключилось от действительности. Он проснулся оттого, что солнце припекло голову и мучила боль в виске. Он увидел внизу сквозь деревья проблеск Москвы-реки, затянутой кое-где утренним паром. Сразу не понял, как это он оказался в Нескучном саду на милых Воробьевых горах, с детства знакомых благословенными малолюдными местами, куда всем двором ездили купаться на полный день, счастливые свободой, солнцем, водой. Как он добрался сюда? Ехал один на трамвае с пересадками? И почему принял решение пробыть до вечера в Нескучном саду, затем в Парке культуры, который примыкал к саду, днем всегда немноголюдному? И отчего этот день был невыносимо долог? Томительно парило, как перед грозой, даже в тени было жарко. На берегу озера в Парке культуры он зашел в маленький летний ресторан, попросил нарзан, пил теплую, железисто покалывающую горло воду, курил, смотрел на раскаленное стекло озера, на дорожки опустошенного солнцем парка, на медлительно вращающееся «чертово колесо», откуда долетал одинокий детский взвизг, одиноко торчащую парашютную вышку, с которой никто не прыгал в этот прокаленный час. Убывая время, он бесцельно ходил по разным углам парка, по берегу Москвы-реки, пил в киосках, не утоляя жажду, кисловатую «газировку», курил. Читал у стендов газеты, ничего не воспринимая, бесцельно зашел в «комнату смеха» (там трое мальчишек до икоты хохотали, хлюпали носами, вскрикивали сквозь смех, перебегая от зеркала к зеркалу), увидел в зеркале свое смешно искаженное лицо, искривленные ноги, попробовал улыбнуться, но получилась гримаса раздражения. «Какого черта я должен смеяться уродству? Для кого это? Для идиотов?»
Он вышел на аллею, прислонился спиной к перилам балюстрады, закрыл глаза, размышляя о своем положении, о всех этих неприкаянных днях, о трижды проклятой необходимости скрываться и вдруг почувствовал презрение к самому себе и даже засмеялся этому презрению.