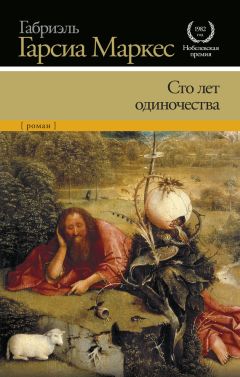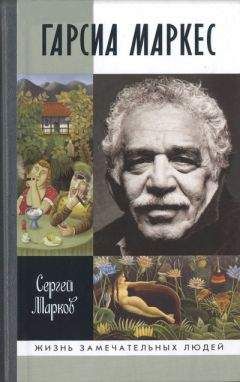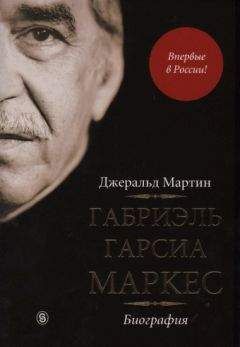На лотереях трудно было разжиться. Сначала Аурелиано Второй три дня в неделю сидел в своей старой конторе скотовода, разрисовывая билет за билетом, довольно удачно изображая красную коровенку, зеленых поросят или синих кур, смотря какая тварь разыгрывалась, и аккуратно подписывал печатными буквами название, которое Петра Котес сочла самым привлекательным для своего дела: «Лотерея Божественного Провидения». Но со временем Аурелиано Второй выдохся и не мог разрисовывать до двух тысяч билетов в неделю, а потому заказал каучуковые штампы с рисунками животных, названием и номерами, и вся работа свелась к тому, чтобы прижимать штампы к разноцветным влажным подушечкам и бумаге. В последние годы Аурелиано Второй надумал заменить номера загадками, чтобы выигрыш делить между всеми угадавшими, но эта процедура оказалась такой сложной и приводила к таким неприятностям, что после первой попытки от затеи пришлось отказаться. Аурелиано Второй был так занят, стараясь привлечь всеобщий интерес к своей лотерее, что у него почти не оставалось времени на детей. Фернанда определила Амаранту Урсулу в частное учебное заведение, куда принимали не более шести учеников, но наотрез отказалась разрешать Аурелиано посещать городскую школу. Она считала, что и так пошла на большую уступку, позволив ему выбраться из комнаты. Кроме всего прочего, в школы тех лет принимали детей, рожденных только родителями-католиками, состоящими в законном браке, а в свидетельстве о рождении, которое вместе с соской было прикреплено к распашонке Аурелиано, когда он попал в дом Буэндия, значилось, что он подкидыш. Таким образом, ему пришлось жить дома за семью замками под нестрогим присмотром Санта Софии де ла Пьедад и Урсулы с ее расшатанными мозгами, воспринимая тесный домашний мирок так, как его себе представляли старухи. Он был вежливый, тщеславный и такой дотошный мальчик, что доводил взрослых до белого каления, но в отличие от сверлящих, словно видящих насквозь глаз полковника Аурелиано в детстве этот Аурелиано, казалось, ни на чем не останавливал свой рассеянный взгляд и часто-часто моргал. Пока Амаранта Урсула пребывала в учебном заведении, он искал червей и мучил насекомых в саду. Но однажды Фернанда поглядела, как он начиняет коробку скорпионами, чтобы подбросить в постель Урсулы, и снова заперла его в старой спальне Меме, где ему пришлось скрашивать свои одинокие часы все той же энциклопедией. Там невзначай и нашла его Урсула, ковыляя по дому с пучком крапивы и обрызгивая комнаты чистой водой, и, хотя она не раз на него натыкалась, спросила, кто он такой.
– Я Аурелиано Буэндия, – ответил он.
– Верно, – заметила она. – Настало время изучать тебе ювелирное дело.
Она снова стала принимать его за своего сына, ибо горячий ветер, сменивший дожди и раздувавший в голове Урсулы искру мысли, утих. Она совсем выжила из ума. В спальне ее ждали Петронила Игуаран в пышнейшем кринолине и в жакете, расшитом стеклярусом, готовая нанести очередной визит, и Транкилина Мария Миньята Алакоке Буэндия, ее парализованная бабушка, которая восседала в кресле-качалке и обмахивалась павлиньим пером, и был там ее прадед Аурелиано Аркадио Буэндия в маскарадном мундире гвардейца вице-короля, и были там Аурелиано Игуаран, ее отец, сочинивший молитву, чтобы личинки оводов высыхали и падали с коров, и ее запуганная мать, и двоюродный брат с поросячьим хвостиком, и Хосе Аркадио Буэндия, и его покойные сыновья, и все они сидели на стульях, расставленных вдоль стен, будто не в гости пришли, а на похороны. Урсула оживленно беседовала с ними, очень подробно обсуждая события, происходящие вне всякой связи с каким-либо временем и пространством, и, когда Амаранта Урсула возвращалась из школы, а Аурелиано отрывался от энциклопедии, они видели, как старуха сидит на кровати и разговаривает сама с собой, окружив себя толпой усопших. «Горим!» – как-то закричала она в ужасе, и на миг все ударились в панику, но, оказалось, ей привиделся пожар на конюшне, пережитый ею в четырнадцатилетнем возрасте. Урсула до того стала путать настоящее с прошлым, что в минуты двух-трех светлых промежутков перед самой ее кончиной никто не мог толком понять, говорит ли она о том, что чувствует теперь, или о том, что было раньше. Мало-помалу Урсула сжималась, усыхала, как чернослив, при жизни превращаясь в крохотную мумию, а в последние, предсмертные месяцы совсем затерялась в ночной рубашке, ее всегда приподнятая рука стала похожа на лапку мартышки. По нескольку дней она не подавала признаков жизни, и Санта Софии де ла Пьедад приходилось встряхивать ее, чтобы убедиться, что она еще жива, и сажать себе на колени, чтобы с ложечки поить сладкой водой. Она выглядела новорожденной старушкой. Амаранта Урсула и Аурелиано брали и носили ее по спальне, клали на домашний алтарь и сравнивали, кто больше, она или младенец Иисус, а однажды запрятали в кладовой с зерном, где ее вполне могли съесть крысы. В предпасхальное воскресенье, когда Фернанда отправилась к мессе, дети вошли в спальню и взяли Урсулу за голову и за щиколотки.
– Бедная прапрабабушка, – сказала Амаранта Урсула. – Скончалась от старости.
Урсула дернулась.
– Я жива! – сказала она.
– Вот видишь, – сказала Амаранта Урсула, сдерживая смех. – Даже не дышит.
– Я говорю! – выкрикнула Урсула.
– Даже не говорит, – сказал Аурелиано. – Умерла, как сверчок.
И Урсула покорилась явности. «Господи, – тихо-тихо воскликнула она. – Значит, это и есть смерть». И начала шептать молитву, не прерываясь ни на миг, поспешно, прочувствованно, более двух дней подряд, а во вторник молитва перешла в бессвязный поток просьб к Господу Богу и практических наставлений близким – чтобы они избавились от рыжих муравьев, хоронящих дом, чтобы никогда не тушили лампаду перед дагерротипом Ремедиос и чтобы, упаси Господи, ни один Буэндия не женился бы на женщине, близкой по крови, ибо тогда родятся дети с поросячьим хвостиком. Аурелиано Второй попытался было использовать удобный случай и выведать у бредившей старухи, где находится спрятанное золото, но и на этот раз его попытки были безуспешны. «Когда придет хозяин, – сказала Урсула, – Бог просветит его и укажет». Санта София де ла Пьедад была уверена, что смерть явится с минуты на минуту, ибо в последние дни природа вела себя довольно странно: розы пахли мятой, тыквенный сосуд ни с того ни с сего упал, а рассыпавшиеся зерна сложились на полу в геометрически правильный рисунок – точь-в-точь морская звезда, а недавней ночью она видела, как по небу вереницей пронеслись светоносные оранжевые плошки.
Урсула умерла на рассвете в страстной четверг. Когда в последний раз, во времена Банановой компании, вместе с ней произвели подсчет ее лет, получилось нечто среднее между ста пятнадцатью и ста двадцатью двумя годами. Ее похоронили в гробике чуть больше корзинки, в которой принесли Аурелиано, а народу на похоронах было очень мало, частично потому, что лишь немногие помнили ее, а частично потому, что к полудню стало нещадно палить солнце, и птицы вдруг заметались меж домов, разбиваясь вдребезги о стены, а иные прорывали металлические сетки на окнах и гибли в спальнях.
Сначала думали, что птиц поразила чума. Хозяйки валились с ног, выгребая кучи мертвых птиц, особенно в часы сиесты, а мужчины повозками сбрасывали в реку пернатую падаль. В светлое Христово воскресенье столетний падре Антонио Исабель возвестил с амвона, что птичий мор вызван заклятием Вечного Жида, которого он сам видел прошлой ночью. Выглядело это бесовское отродье, как если бы его уродили еретичка с козлом, – настоящее исчадие ада, чье дыхание сжигает воздух и чье присутствие ведет к зачатию выродка в семьях молодоженов. Не слишком многие внимали его апокалипсическим страданиям – люди были убеждены, что их пастырь тронулся разумом по причине солидного возраста. Но одна женщина в среду на заре переполошила весь город, крича, что обнаружила следы какого-то двуногого парнокопытного существа. Следы были такими четкими и свежими, что каждый, их видевший, не сомневался в появлении чудища, подобного тому, о котором говорил священник, и все, как один, стали строить западни в своих патио. Случилось так, что поимка удалась. Спустя две недели после смерти Урсулы Петра Котес и Аурелиано Второй внезапно были разбужены ночью странным ревом теленка, доносившимся из соседнего двора. Когда они туда пришли, несколько мужчин сняли чудовище с острых кольев, натыканных в яме, которая была прикрыта сверху сухой листвой, и плач прекратился.
«Оно» весило с доброго быка, хотя по виду было не больше подростка, а из его ран капала зеленая густая кровь. Шелудивое, заросшее жесткими волосами и облепленное клещами тело могло, вопреки описанию священника, принадлежать человеку, даже скорее падшему ангелу, потому что у него были гладкие и цепкие кисти рук, большие и печальные глаза, а на лопатках – по мозолистому, покрытому шрамами обрубку, возможно от прежних крыльев, отсеченных топором дровосека. Его повесили вниз головой на одном из миндальных деревьев в центре Макондо, чтобы все видели, а когда «оно» стало подгнивать, сожгли на костре, ибо так и не выяснили, кем был этот ублюдок – животным, чтобы кинуть в реку, или христианином, чтобы предать земле. Не установили также, вправду ли из-за него умирают птицы, но ни у кого из молодоженов не родился уродец, как было предсказано, и дикая жара не уменьшилась.