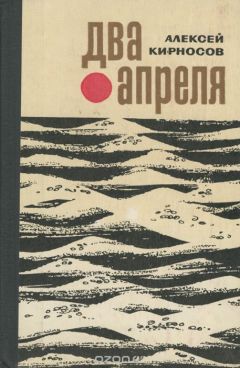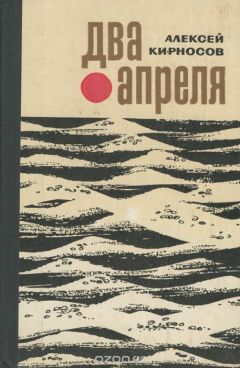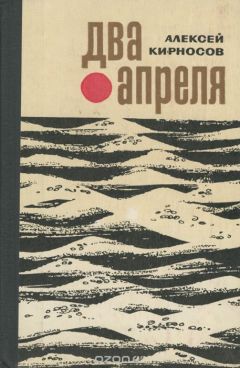- Бывает, - совсем успокоился капитан Кошастый.
Спустившись в каюту и отогревшись, Овцын сел к столу, раскрыл блокнот и записал все, что запомнилось из виртуозной брани капитана Кошастого. Потом снова поднялся в рубку, глянул, что «Березань» еще дрейфует. В никем еще не тронутой пачке радиограмм нашел на свое имя одну - от матери. Спускаясь обратно в подпалубный коридор, напевал не всерьез и негромко строчки из старинной матросской песни:
Жена найдет себе другого,
А мать сыночка никогда...
Читая рукопись, Юра Фролов временами вскидывал брови, потирал руки и чмокал губами. Иногда возвращался и перечитывал несколько страниц. Овцын сидел, покуривал и был уверен, что вещь получилась, а после того, как Эра перепечатала ее, приобрела даже некоторый лоск. Правда, хвалила она сдержанно. За каждым похвальным словом ощущалось невысказанное «но»...
- Годится, - сказал Фролов. - Очень годится. «Умри, Денис, лучше не напишешь!» На морскую тему. Несемся к шефу.
Редактор, еще более обрюзгший и посеревший, протянул Овцыну руку, не приподнявшись с кресла. Прочитав рукопись, он взглянул на Фролова, попросил:
- Вы идите, Юрий Владимирович, а мы тут поговорим.
- Отличная вещь, - высказался все-таки Юра Фролов, прежде чем выйти.
- Совершенно непригодная вещь, - произнес редактор, когда за Юрой затворилась дверь. - И я не вижу, что тут можно поправить. Пожалуй, не стоит править.
- Я и не собираюсь править, - сказал Овцын, удивленный и уязвленный. - Хотя бы потому, что не умею... Можно узнать, почему это совершенно непригодно?
- Можно, - кивнул редактор. - Это невесело, Иван Андреевич. Вы забрались в тему несколько глубже, чем положено газете. Порядочно глубже.
И получилось, что вы говорите то, о чем воспитанные люди обязаны умалчивать. Не потому, что надо скрывать, а потому, что нет доблести повторять, что каждый из нас под одеждой голый. Вы меня понимаете?
- Не очень.
- Жаль, - вздохнул редактор. - Хорошо, выскажусь проще. Ваша работа не годится мне потому, что в ней нет приподнятости, нет стремления к еще не достигнутому, нет вдохновляющего примера для рядового читателя и нет - и конце концов - призыва. Она вызывает душевное беспокойство, понимаете, это при нашем-то тираже. Уже помимо того, что истины типа «человек произошел от обезьяны» не нуждаются в широкой пропаганде.
- Я не пропагандирую эту истину, - заметил Овцын.
- Вы пропагандируете и это и еще много невеселого, - сказал редактор.
- А не думаете ли вы, что ваше перо, оказавшееся вдруг достаточно крепким, обязано послужить делу ободрения человека? Есть много охотников ныть, бранить погоду и показывать из-за спины чистенько мытый кукиш. Разве вы из этой когорты? Вы же здоровый мужик - наверное, получили от жизни радость полной мерой. Может, поделитесь с теми, кому ее досталось меньше?..- Редактор впился в него взглядом, и Овцын опять почувствовал себя машинкой, которую развинчивают на детали. - Хорош тут у вас штурман, который стихи сочиняет. «Сплели мы сеть из траекторий звезд и всех их, как треску, переловили», - процитировал редактор, не заглядывая в рукопись. - Вы это не сами присочинили?
- Нет, это натуральное.
- Видите, как люди мыслят. Видите, чего они хотят. И плевать им на то, что задача сия неисполнима. А вы про что?.. Теперь вы меня понимаете?
- Теперь понимаю, - сказал Овцын. - Короче говоря, «тьмы низких истин нам дороже»...
- Да, дороже! - резко подавшись вперед, перебил его редактор. -Именно потому, что он возвышающий. А рукопись свою возьмите. Она вам еще пригодится как материал.
- Значит, мне надлежит вернуть командировочные и проститься? -спросил Овцын.
- Если вы слабый человек и не умеете доводить до конца начатое дело,
- произнес редактор, ощупывая его взглядом. - Но я вас таким не считаю.
Напишите другое. И заклинаю вас килем вашего парохода, избегайте этого псевдогуманизма...
- Опять не понял.
- Не страдайте, глядя на то, что человек отдает много, а получает за это мало. Тот, кто получает столько, сколько дает, живет на свете зря. Без эдакой публики человечество прекрасно обойдется. Надо стараться побольше оставить наследникам.
- Это верно, - сказал Овцын.
Дома он хотел порвать рукопись, но Эра отобрала ее и спрятала в стол.
- Я все это предчувствовала, - сказала она. - Странно только, что он так легко убедил тебя. Скажи... может быть, ты из-за денег? Мы не разоримся, если вернем командировочные.
- Нет, не из-за денег. Произошла странная штука, - сказал он.- Да, он меня убедил. Но... и не разубедил. Мы правы оба. Мы оба толкаем вперед одну телегу. Он напирает с одной стороны, а кто-то напирает с другой. Сейчас он позвал меня на свою сторону пособить. Возможно, он видит, что на другой стороне собралось больше народу и телега пошла неровно.
- Умеешь ты объяснять, - сказала Эра. - Но принципиальность...
- Некоторым легко щеголять принципиальностью. Они приспособились посередке. Там тепло, уютно и полная гарантия, что поступаешь правильно, ибо не двигаешь телегу ни вправо, ни влево. Принципы достаются бесплатно, как человеку, дога давшемуся поселиться под пальмой, достаются финики.
- Хотела бы я знать, какие принципы у тех, кто бегает слева направо, и дорого ли за них плачено, - сказала она.
- Принцип предельно прост, - сказал он, сердясь и потому все более убеждаясь в своей правоте. - Как, скажем, у маятника, поршня или весла. Платят за них именно тем, что бегают справа налево.
- Ты еще не упомянул руль. Поразительно, до каких фантастических нелепиц может договориться человек, когда он сердится.
- Ну, и не будем сердиться, - сказал он, устыдившись, и обнял ее.
- Что толку сердиться... - Она огорчилась. - Садись, пиши свою голубую повесть... Но не перестарайся. Когда справа напирают слишком усердно, телега сворачивает влево. Не знаю уж, по какому закону. Я не мастер объяснять.
Он погрузился в работу, и его совершенно не занимало, что там творится за пределами комнаты. Бронзовый скептик Будда был его единственным собеседником. Даже спустившись с четвертого этажа, чтобы, перед тем как лечь в постель, вы дышать дневную дозу никотина, он продолжал видеть мир издали и сверху, и мир был необыкновенно хорош и годен для человека таким, как он его видел. К Эре приходили гости, и она сидела с ними на кухне. Однажды, закрыв за кем-то дверь, она пришла в комнату и сказала:
- У Ломтика несчастье. Его будут судить.
- Что натворил этот бэби? - спросил он равнодушно.
- Оказалось, что он тунеядец, - сказала Эра.
- Хорошо, - кивнул Овцын и тут же забыл про Ломтика.
На девятые сутки, закончив работу, он не мог придумать название и даже жанр не мог определить. Он ничего не выдумал, написал все, как было, и все же этого не было. Это он хотел, чтобы так было. И люди, о которых он писал, хотели, чтобы так было.
- То и это, - сказала Эра. - Как такие вещи совмещаются у тебя в голове?
- В жизни это тоже существует одновременно, - ответил он.
- Знаю я твою теорию... Но это неплохо, даже если и выдумано.
- Ничего не выдумано, - возразил он.
- Я хотела сказать: переосмыслено по-своему. Вполне законный прием. Не хуже прочих. Когда на дворе грязно, можно или взять метлу, или надеть калоши. И то и другое помогает.
Он добавил:
- Можно посидеть дома и подождать, пока грязь просохнет.
- Мы договорились не спорить на эту тему, - напомнила она. - Ты и прав и не прав. Я тоже права и не права. Наш спор никогда не кончится. Главное, чтобы намерения были добрыми, тогда все простится.
- Помоги мне придумать название, - попросил он.
Она придвинула машинку, сказала:
- Я перепишу, не меняя ни слова. А название я тебе уже дала, хоть и не думала тогда, что оно так подойдет. «Голубая повесть». А что? Ты часто упоминаешь голубые огни, пронзающие мрак полярной ночи. Они просто занозами застревают в памяти, эти голубые огни.
- Пусть будет повесть, - согласился он и утром отнес «Голубую повесть» в редакцию.
И через пять дней любовался ею в свежем номере газеты. На этот раз редактор не высказал претензий.
И Юра Фролов похвалил его:
- Два подвала - это могучий успех! Вы нашли себя в журналистике, Иван Андреевич. Хотите, устрою вам еще командировку?
- Не хочу, - отказался Овцын.
Он не задумывался, что будет теперь делать. Работа над «Голубой повестью» опустошила его, он дьявольски устал и думал, что не грех несколько дней отдохнуть, не задумываясь ни о чем, побродить по Москве, к которой еще не привык, да почитать книжки, задрав на диван ноги в носках... Он послал газету на «Березань» и матери. Пока шел домой, смотрел, как люди читают «Голубую повесть», вывешенную на стенах. Он останавливался, вглядывался в лица.
Дома Эра в задумчивости сидела над раскрытой газетой. Она ничего не сказала, и он спросил ее: