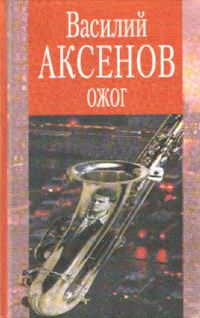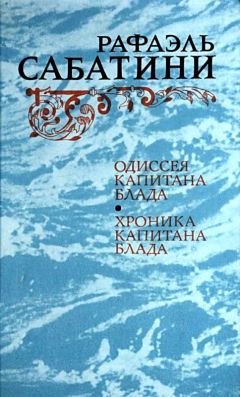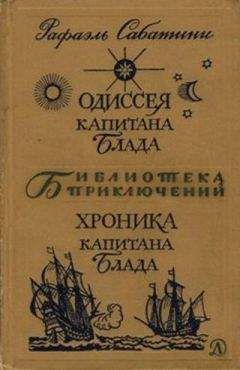– Пантелюша! – вскричал вдруг «блейзер». – Расскажи нам в двух словах содержание пьесы «Три сестры»!
При имени «Пантелюша»лицо Вадима Николаевича отразило некоторое беспокойство, взгляд его с чавычи поднялся повыше, мокрой тряпкой прошелся по лицам присутствующих, но ничего не прояснил, а только размазал. Затем Серебряников упал лицом на край стола и прорычал:
– Если появится Пантелей, скажите ему, что он подлец!
Палец корифея помешал кофейную жижу и выразительно показал всему столу объект наблюдений, ниточку непрожеванной красной рыбы – тоже, мол, бессловесная тварь, а жить хочет! После этого все уже упало в Вадиме Николаевиче, все обвисло для отдыха в Эрмитаже маразма.
Содержание пьесы «Три сестры» таково
Ничто не дается без упорного труда, и фигурное катание не является исключением. Сестры с детства росли в спортсекциях под заботливым оком старшего персонала, гибких мужчин и тяжеловатых мускулистых женщин.
Зачем я здесь? Кого я жду? Кокошкину, Митрошкину, Парамошкину? Почему не слинять в мгновение ока, оставив рассказ незаконченным?
Хотя сестры принадлежали к поколению, которое не представляло себе жизнь вне системы Интервидения, их квартира была шедевром старорусского стиля. Мамаша, чемпионка РККА по пулевой стрельбе, коллекционировала помятые в боях за независимость самовары, а папаша, страстный орнитолог, день-деньской вел милый пересвист со своими щеглами, чижами, дроздами, а по утрам, сокровенно урча, пил сырые яйца. Семья взрослела вместе со страной.
– Представляете, девочки? Тузенбах – Элвис Пресли, Вершинин – Френк Синатра, Соленый – Адамо!!! Все в наших руках! Коопродакшн на средства княжества Монако! Полифония! Полигамия! Сри систерс ар дансинг, чуваки ар сингинг!! В Москву! В Москву! – Руки «блейзера» двигались под скатертью, словно он там пленку проявлял.
В дошкольный период сестрички интересовались периодическими кровотечениями из матки и потому вечно ходили исцарапанными: кошка Сицилия не желала быть объектом наблюдений.
– Вам нравится поэзия Иосифа Бродского? – спросила в паузе Кокошкина своего соседа, поэта Федорова-Смирнова.
Этим вопросом девушка хотела себя немножко приподнять из общего круга животных устремлений, спасти себя хотя бы на время от потных лап, показать, что она не только танцующая фигурка, услада мужчин, но еще и личность с внутренним миром. Такая инстинктивная ловкость – не редкость у простодушных существ.
– Бродский? – полыхнул поэт томатным соусом. Девушка продолжала, не ведая дурного:
– Помните, как это у него?… Семь лет спустя он прикрыл ей ладонью веки, чтобы она не жмурилась на снег, а веки, не веря, что их пробуют спасти, метались, будто бабочки в горсти…
– Говна! – взревел Федоров-Смирнов. – Бродский воображает себя Лермонтовым! Если он Лермонтов, то я тогда кто?!
Они учились в школе, но многого не понимали. В чем, например, смысл русской матрешки, с ее бесконечными копиями, заключенными внутри? Имеет ли шансы несовершеннолетняя девственница на какую-нибудь роль в современном движении молодежи? Почему женщины передовых социалистических стран не развертывают борьбу за обезболивание абортов?
Младшенькая, мучимая собственными «проклятыми» вопросами, однажды явилась в молодежный клуб при палеонтологическом музее. В чем принцип размножения тритона? Как спариваются разнополые утконосы? Возможен ли любовный акт между самкой цапли и самцом фламинго? Старшие сестры прибежали в панике – перепутала музей, дурочка!
Развитие шло прямиком к зрелости, и сестры, сидя на заседаниях бюро Краснопресненского РК ВЛКСМ или в активе кафе «Печора», взывали к перелетным птицам – в Москву, в Москву!!
В закатных странах ширился бунт молодежи, у нас же все было в основном спокойно, и лишь в славянофильских кругах столицы всех славян шепотом расползались слухи об изобретении евреями Скандинавии резиновых гениталий.
– Эх, жалко, магнитофона нету, – сокрушался «блейзер». – Готовый сценарий, либретто… Пантелюша, извини, мы сейчас за тебя выпьем. Выпьем, друзья, за синтетическое искусство, за либидо, за удачу!
Зачем я здесь? Немедленно надо уйти, приползти на свой чердак, поклониться Божьей Матери Утоли Мои Печали, включить лампу над столом, поставить пластинку с чикагским джазом, положить на стол чистую бумагу. Сколько можно трястись в этом гнусном поезде, неужели нельзя из него вывалиться на ходу, пусть даже с риском для жизни? Кто подал нам этот дребезжащий поезд, с дребезжащими бутылками и рюмками, с липкой закуской? Где мы сели в него, на его заблеванные бархатные подушки, на какой захарканной платформе? Где везут наш багаж: наше детство, нашу свободу, наши сочинения? Под какими замками, под какими пломбами? Мы догадываемся, что наше скрипучее чудище идет по зеленой холмистой стране над прозрачными водами, а на горизонте встают то цепи горных хребтов, то силуэты городов, мы догадываемся, что пересекаем огромные площади с толпами людей, охваченных страстью, мы догадываемся, но ничего не видим, а только лишь разливаем и закусываем и тупо перемалываем свои несвежие замыслы, сближаемся и кучкуемся, потому что нам страшно просто метать из-за стола и рвануть дверь и спросить с простым гневом: куда вы нас тащите?
– Хата есть, старик?
– Чего тебе, Федоров-Смирнов?
– Надо этих сестричек в темпе на хату везти, пока горяченькие, а то начнутся истерики. Везти и тянуть!
Наступило время разлук. Младшую увез танзаниец в заповедник на озеро Виктория и там ее тянул. Средняя девочка дотанцевалась до греха, до грека-подпольщика, вместе с которым была послана на партийную работу в Зимбабве, а там ее перекинули к плантатору-расисту, и тот ее нещадно эксплуатировал, то есть тянул. Вот старшей повезло, ничего не скажешь: законным браком она сочеталась с настоящим швейцарцем и ныне имеет себя красиво жить-держать в солидном хаусе, что зиждется посреди европейского хаоса, как цитадель здравого смысла и регулярного, вполне умеренного коитуса. Все три грации, ввиду принадлежности к свободному миру, умерщвляют сперму по французской методе и, встречаясь весенними вакациями в шоколадных кафе, вспоминают о пельменях и московской поросятине, которая и по сей день осталась для них символом всего нового, передового. В Москву, в Москву!
– Как гадко вы говорите! – вдруг пылко сказала Нинель Митрошкина, и носик ее задрожал от отваги.
Пантелей покрылся стыдным потом.
– Вы правы, Нинель, концовка плоская.
– Не плоская, а гнусная, скучная, вшивая, – едва ли не заплакала Митрошкина. – Как вам не стыдно издеваться над Россией и Европой? Когда-то вы были моим любимым писателем, вы были мой внутренний мир, а сейчас я вижу, вы – мокрица! Вот рядом с вами сидит вонючий козел Федоров-Смирнов, он хлопочет о хате, он хоть и противен, но понятен, а в вас ведь ничего уже человеческого не осталось, любимый!
Она разрыдалась и положила головку на розовую руку. Нежнейший пробор, без единой перхотиночки, оказался рядом с мерзейшим блюдом «Столичного салата».
– Не пьет ни хера, вот и деградирует, – презрительно прогудел пародист.
– Устами младенца глаголет истина! – вдруг очень громко, очень трезво и презрительно сказал товарищ Вадим Николаевич Серебряников. Он поднял голову и теперь смотрел прямо в глаза Пантелею холодным трезвым взглядом. – Девочка права, Пантелей, цинический огонь сжигает прежде всего самого циника!
– Ах ты, падла! – Пантелей тут же забыл и про трех сестер, и про водку, что плескалась на столе, как курва в бане. Все в нем поджалось и зазвенело от ненависти. – Подонок! – сказал он другу. – Вот за это они тебя и ценят, ничтожество! Знают, что, когда нужно, умеешь собраться и цитатку накнокать и толкнуть формулировочку, за это они тебе и приступы маразма прощают!
Серебряников не забыл сунуть в карман свой слегка похудевший денежный кирпичик, после чего встал.
– Давай выйдем!
– Ребята, давайте уж без драк, – попросил «блейзер». – Ведь мы же ж все ж таки европейцы.
Федоров-Смирнов тут оскорбительно захохотал, и Пантелей подумал, что, расправившись с Вадимом, вернется и даст жизни грязному шакалу-антисемиту, а звезд балета увезет к себе на чердак и ляжет с ними, с тремя, а писать ничего не будет ни сегодня, ни завтра, никогда. Думаю, как пьяный, подумал он, хотя и не беру уже ничего которую неделю. А вот вернусь после драки и выпью!
только на полотенце виднелся отпечаток потной бильярдной руки.
Вадим Серебряников и Пантелей Пантелей мочились и молчали, стоя бок о бок, словно добрые друзья. Оба почти одновременно передвинулись, отряхнулись, заправились, повернулись друг к другу и виновато улыбнулись.