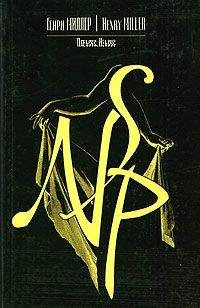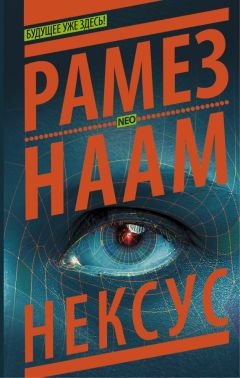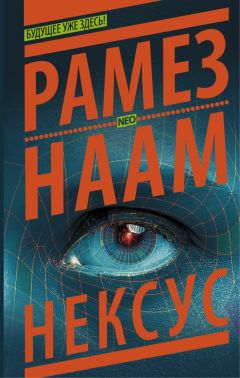Ознакомительная версия.
— Европа, — заключил я, — дорогая бесценная Европа, не обмани меня! Пусть ты окажешься вовсе не той, какой я представляю себе и о какой мечтал, но прошу, не лишай меня хотя бы надежды на то, что в дальнейшем при упоминании о тебе лицо мое примет довольную мину. Пусть твои граждане презирают меня, пусть ни во что не ставят, но молю, пусть разговаривают между собой на том языке, какой звучит в моем воображении. Дай мне испить мудрости и у этих острых, подвижных умов, которые свойственны только универсальному интеллекту, приученному (с колыбели) освящать поэзией факт и деяние, дай соприкоснуться с. духом, который вспыхивает по малейшему поводу и парит, парит в вышине, достигая невероятных высот, и в то же время не теряет житейской здравости, остроты и эрудиции. И не показывай мне, о дорогая Европа, пожалуйста, не показывай сквозь розовые очки континент, обреченный на прогресс. Мне хочется лицезреть твой древний, источенный временем лик, морщины, полученные в вековой битве на арене мысли. Хочется своими глазами видеть орлов, которых ты приучила есть с руки. Я иду к тебе, как пилигрим, благочестивый пилигрим, который не просто верит, познает, что невидимая сторона лупы прекрасна, безмерно прекрасна.
До сих пор я знал только призрачное, выщербленное лицо кружащего нас в вихре мира. Ряды потухших вулканов, безжизненные горные хребты, раскаленные пустыни, расползшиеся варикозными венами по бездушному, безжалостному пространству. Прими меня, древняя земля, прими как кающегося грешника, прими как человека, не совсем погибшего, хотя и постоянно сбивавшегося с пути, который с юных лет разочаровывал своих братьев и сестер, советчиков, учителей и утешителей.
Только я закончил мольбу, как предо мной вдруг всплыло лицо Ульрика, он выглядел точно так, как в тот день, когда я встретил его на углу Седьмой авеню и 52-й улицы. К тому времени он уже побывал в Европе, и в Африке тоже, — его глаза все еще светились восхищением от увиденного. Он словно влил в меня новую кровь. В венах моих забурлили вера и мужество. Hodie mihi, eras tibi! [128] Европа существовала, и она ждала меня. Что бы ни случилось — голод, мороз, войны, революции, — она останется той же. Останется Европой, по которой всегда будет тосковать изголодавшаяся душа. Я слушал его, жадно впитывая каждое слово, и мысленно задавал себе вопрос, возможно ли (достижимо ли?) попасть туда такому, как я, который «вечно плетется позади всех». Голова моя кружилась, как у пьяного, я чувствовал себя неуверенно, как слепой, потерявший палку, а магнетическая сила его слов (Альпы, Апеннины, Равенна, Фьезоле, равнины Венгрии, Иль-Сен-Луи, Шартр, Турень, Перигор…) отзывалась болью где-то внутри, эта боль медленно вызревала, становясь чем-то вроде Heimweh [129], стремления к «миру, находящемуся в другом времени и пространстве». («О, Гарри, сколько грязи и дряни мы встретим, прежде чем попадем домой».)
Да, Ульрик, в тот день ты заронил в мою душу семя мечты. Ты отправился в свою студию, чтобы рисовать свежие бананы и ананасы для «Сатердей ивнинг пост», а я дал волю воображению. Европа была так близко. Что значат какие-нибудь два года, пять или даже десять? Это ты, Ульрик, вручил мне заграничный паспорт. Это ты разбудил дремлющего гида: Heimweh.
Hodie tibi, eras mihi[130].
И, бродя в тот день по улицам, я мысленно прощался с привычными ужасными и тоскливыми сценами, со всей этой тягомотиной, больничной стерильностью и отношениями без любви. Когда я шел по Пятой авеню, лавируя, как угорь, меж людьми, делающими покупки, и праздношатающимися бездельниками, меня душило отвращение и презрение ко всему, на что падал мой взгляд. Слава Богу, мне не придется вечно созерцать эти занюханные кувшинные рыла, эти уродливые здания Нового Света, эти угрюмые церкви, эти парки, кишащие голубями и бродягами. Направляясь с улицы, где стоял магазин отца, к Бауэри (привычный маршрут моих детских лет), я вновь проживал годы ученичества, понимая, что то было время отчаяния, неудач и страдания. Тысяча лет одиночества. К зданию Куперовского союза я обычно подходил в наимрачнейшем настроении, и тогда в голове у меня начинали крутиться отрывки из ненаписанных книг — словно загнутые уголки мечты, не желающие распрямляться.
Эти загнутые уголки всегда будут преследовать меня здесь… о них напомнят карнизы прокопченных, грязно-коричневых лачуг, выложенные плиткой фасады салунов, укромные уголки, где, словно сонные мухи, слоняются бродяги с затуманенным взором рыбьих глаз, и — Боже! — какие они потрепанные, испуганные, изнуренные, осунувшиеся! И вот в этом Богом забытом месте Джон Каупер Повис читал лекции, принося в этот грязный вонючий район последние новости из вечного мира духа — духа Европы, его Европы, нашей Европы, Европы Софокла, Аристотеля, Платона, Спинозы, Пико делла Мирандола, Эразма, Данте, Гете, Ибсена. Здесь же объявлялись и другие пылкие энтузиасты, они обращались к толпе, пытаясь расшевелить ее не менее великими именами: Гегеля, Маркса, Ленина, Бакунина, Кропоткина, Энгельса, Шелли, Блейка. За прошедшее время вид улиц не изменился, стал, пожалуй, даже хуже — еще меньше надежды, справедливости, красоты и гармонии. Вряд ли здесь может вырасти Торо, или Уитмен, или Джон Браун, или Роберт Э. Ли. Скорее заурядность — личность печальная и нелепая, руководимая сверху, неспособная принимать самостоятельные решения и отличать добро от зла, подстраивающаяся к общественному мнению, негибкая и вечно затягивающая похоронный марш.
— Прощайте, прощайте! — повторял я, шагая мимо. — Прощайте! — Никто не отзывался, даже голуби. — Вы что, оглохли все, сонные тетери?
Я словно шел по границе между цивилизациями. По одну сторону культура бурлила, как вода в открытой канализационной трубе, по другую — abattoirs, с висящими на крюках рассеченными и окровавленными тушами, сплошь усеянными мухами и личинками. Тропа жизни двадцатого века. Одна триумфальная арка за другой. И роботы с Библией в одной руке и с винтовкой — в другой. Лемминги, спешащие к морю. Вперед, Христовы воины… Ура, Карамазовы! Какая веселая мудрость! Encore ип petit effort, si vous voulez xtre rupublicains! [131]
Иду по середине дороги. Стараюсь не наступить на кучки свежего навоза. По какой грязи и дряни нам приходится пробираться! Ах, Гарри, Гарри! Гарри Холлер, Гарри Холлер, Гарри Смит, Гарри Миллер, Гарри-Мученик. Вперед, Асмодей, вперед! На костылях, как хромой сатана. Но увешанный орденами. И еще какими! Железный крест, Крест Виктории, Croix de Guerre [132]… золотые, серебряные, бронзовые, железные, цинковые, деревянные, оловянные… Делай свой выбор!
А несчастному Иисусу пришлось нести свой крест!
Воздух становится более едким. Чатнем-стрит. Старый добрый китайский квартал. Повсюду, словно медовые соты, множество маленьких домиков. Опийные притоны. Страна лотоса. Нирвана. Отдыхайте и ни о чем не беспокойтесь — пролетарии всех стран работают. Все мы трудимся — чтобы потом проследовать в вечность.
А вот и Бруклинский мост, он, словно лира, повис между линией небоскребов и Бруклинским холмом. И, как всегда, бредут по нему пешеходы, возвращаясь домой с пустыми карманами и желудками, с пустыми сердцами. Горгонзола, ковыляющий на почерневших от солнца ногах. Внизу — река, в небе — чайки. А над чайками — невидимые звезды. Славный денек! Такой прогулке позавидовал бы сам Помандер. Или Анаксагор. Или ценитель извращенного вкуса Петроний.
Зима жизни — думаю, это кто-то отметил — начинается с рождения. Самые трудные годы — от одного до девяноста. А после — штиль.
Ласточки тоже летят домой. В клюве у каждой — крошка, веточка, проблеск надежды. Epluribus unum[133].
Поднимаются оркестранты, все шестьдесят четыре музыканта в безукоризненно белых костюмах. А над головой на темно-синем куполе зажигаются звезды. Начинается грандиознейшее шоу на земле, в котором принимают участие дрессированные тюлени, чревовещатели и воздушные гимнасты. Распорядитель — дядюшка Сэм, этот тощий верзила в полоску, этот юморист, который, широко расставив ноги барона Мюнхгаузена, ходит по свету и в любое время года, несмотря на ветер, град, снег, мороз или засуху, готов кричать свое ку-ка-ре-ку!
Как-то ясным, солнечным утром, отправляясь на ежедневную прогулку, я наткнулся на Макгрегора, который поджидал меня у дверей.
— Привет! — окликнул он меня, включая на лице электрическую улыбку. — Вижу, это ты — во плоти и крови? Наконец-то я тебя накрыл. — Он протянул руку для рукопожатия. — Малыш, ну почему я должен околачиваться у твоих дверей? Неужели трудно уделить пять минут старому другу? От кого ты бежишь? И наконец — как поживаешь? Что твоя книга? Можно пройтись с тобой?
Ознакомительная версия.