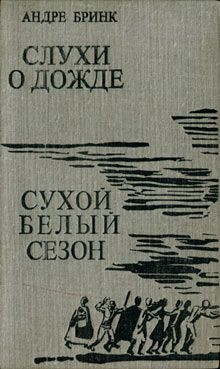Уже ближе к рассвету мы наконец выползли наружу в полную неведомых опасностей ночь. Голова раскалывалась от боли. Я ничего не видел и едва стоял на ногах, опершись на машину, пока Чарли отпирал ее. И тут меня стало рвать. Он продолжал болтать и успокаивать меня, поддерживая под руки, как когда-то давным-давно Белком. Еще ни разу я не опускался так при Чарли, ни разу я не был столь беспомощен. Но он делал вид, будто ничего не замечает.
Плюхнувшись на заднее сиденье и высунув голову в открытое окно, я едва ли понимал, что, собственно, происходит. Но одно меня все же поразило: хотя было еще совсем темно, никак не более четырех утра, улицы были полны людей, бесконечным потоком движущихся на работу.
— Ну, что? — засмеялся Чарли. — Приятный вечерок?
В его голосе не было ни тени усталости. Я даже не пытался отвечать. Весь мой гнев, недовольство и сопротивление были сломлены. Он вытряс из меня всю уверенность и самоуважение. Чем беспомощнее я становился по ходу ночи, тем больше это распаляло его.
Он затормозил у подъезда дома в Жубер-парке. Я даже не подозревал, что он знает об этой квартире, я никогда не упоминал ему о ней. Но я был слишком усталым, чтобы любопытствовать. Он с трудом дотащил меня до лифта, обняв за плечи. В квартире он приготовил ванну. Наверное, он бы помог мне и раздеться, если бы я не остановил его. После ванны он уложил меня в постель. Должно быть, он тоже немного поспал. Когда в девять утра я, спотыкаясь, выбрался из спальни, он уже сидел в кресле в гостиной, свежий как огурчик.
Я не в первый раз не ночевал дома, так что Элиза, скорее всего, и не волновалась. Но я все же позвонил ей из конторы. Женщинам нравятся такие небольшие знаки внимания. Днем Чарли позаботился, чтобы мой запачканный костюм был вычищен, и я смог вернуться домой в той же одежде, что и ушел накануне. Ни единым словом он никогда не напомнил мне о той ночи. Я ему тоже.
Но мне хотелось бы найти его поведению хоть какое-то объяснение. Не было ли все это намеренным оскорблением с его стороны? Старался он развлечь меня или играл со мной в кошки-мышки? Одно мне ясно: с Чарли все было не так, как когда-то с Велкомом. Хотя они и очень походили друг на друга. Но не во всем. С Велкомом мы были друзьями. А с Чарли мне всегда приходилось что-то защищать и отстаивать. Так же вел себя и он (из-за Бернарда?). Нам никогда не удавалось преступить определенную черту в наших отношениях. Кроме той не поддающейся объяснению ночи.
Или все просто можно свести к тому, что со времени моей дружбы с Велкомом прошло много лет, и я стал старше? Между двумя этими встречами что-то произошло со мной, что-то я в себе утратил. Может быть. А может быть, и нет. Не стоит все чересчур драматизировать.
* * *
Отложив газету, я поглядел на Луи, спавшего спиной ко мне. Нечто чрезвычайно знакомое было во всей ситуации: кровать у противоположной стены, потертый зеленый ковер на полу, умывальник, марлевая занавеска на окне. Комната Бернарда в пристройке. Наши долгие ночные беседы. Белокурая голова Луи была как удар в солнечное сплетение. И не потому, что он был похож на Бернарда. Просто в это мгновение он и был Бернардом. Новым, неведомым Бернардом.
Я поспешно встал. Когда я клал газету на ночной столик, мои наручные часы звякнули о темный стеклянный абажур лампы. Звук был настолько знакомым, что у меня внутри все замерло. Однако пришлось основательно порыться в памяти, чтобы припомнить его. Да, конечно: позвякивание стеклянных лепестков абажура в моей детской, когда я во время болезни потянулся к стакану с водой. В ту минуту, когда, как сказал доктор, кризис уже миновал.
Хотя было пять минут пятого, в доме стояла тишина. Лишь из кухни доносились какие-то приглушенные звуки. Дверь в комнату матери была закрыта. Я на секунду задержался возле отцовской двустволки, висевшей в коридоре, и погладил полированный приклад. Может быть, удастся подстрелить что-нибудь в вельде? Но не без очков же! Чертыхнувшись, я вышел из дома, осторожно прикрыв за собой дверь. Тускло светило водянистое зимнее солнце.
Я бесцельно побрел по двору мимо фигового дерева. С вершины холма по-прежнему доносились ритмичные удары кирок, вгрызавшихся в землю:
Мне не хотелось идти туда. Почти машинально я пошел мимо сараев, мимо отцовской пристройки, мимо каменной ограды кладбища к высохшей речке на дне долины. По обе стороны тропы поля превратились в голую землю, вычерненную солнцем. Водоем у запруды был пуст, на дне замысловатым узором растрескалась глина. А ведь здесь я едва не утонул когда-то.
Я брел как лунатик, не решаясь ни переменить направление, ни остановиться и проклиная свои роскошные итальянские ботинки, в которых я спотыкался через каждые несколько шагов. Надо было привезти старые охотничьи сапоги. Правда, я не собирался в этот уикенд совершать долгие пешие прогулки.
Охота, единственная из забав моего раннеромантического периода, которой я остался верен. Сейчас я охочусь не чаще раза в год. Обычно зимой, когда открыт сезон. В лесах Северного Трансвааля или в Юго-Западной Африке где я могу совместить это с деловой поездкой на одну из моих шахт. Эти несколько дней в кругу близких друзей помогают мне освободиться от давления внешнего мира куда лучше, чем все остальное (если не считать той недели в Мозамбике с Беа). На охоте ничто, кроме нее самой, не имеет никакого значения, мир далек и не интересен. Есть только ежедневные походы в буш втроем или вчетвером, в старой одежде, охотничьих сапогах, в шапке защитного цвета и со своим надежным ружьем триста восьмого калибра. Выбираешься из палатки с первым проблеском зари, когда мороз еще стелется белым инеем по земле, варишь кофе на костре, разожженном головешками, тлеющими со вчерашнего вечера, слушаешь поскрипывание сапогов по жесткой траве. Все чувства в тебе напряжены, глаза и уши ловят малейший звук или движение в буше. Медленно поднимается солнце. Жуки в траве. Паутина, сверкающая в утренних лучах. Птицы-носороги в терновнике. Если не повезет, крикливая птица увяжется за тобой, перелетая с дерева на дерево, и спугнет дичь. Куропатки, вспархивающие прямо из-под ног. К полудню — уже подстреленные антилопа или сернобык. Печень, зажаренная на углях, — слишком дикарское и обильное блюдо, на мой вкус, но это обязательная часть ритуала.
Мгновение, когда видишь, как антилопа дергает головой. Попал. Последний прыжок. Ты подходишь к ней: она еще в агонии, тонкая шея дергается и бьется в траве, большие черные глаза застланы голубоватой пеленой, из ноздрей бегут струйки крови.
Несколько раз мне случалось охотиться и на крупных зверей, однажды даже на льва. Тогда ощущения еще более сильные, ибо в условия игры входит и возможность собственной гибели. Опасность, страх. Рискуешь жизнью только для того, чтобы подстрелить животное. И не более. Но может быть, именно простота игры и придает ей какое-то дикарское обаяние. Жизнь и смерть, не замутненные ничем иным. Словно возвращаешься к первоосновам бытия.
Но не всегда на охоте ощущаешь только приятное возбуждение. Бывают и разочарования, как в тот день, когда я подстрелил сернобыка: я видел, что попал ему под лопатку, но все стадо, двадцать или даже тридцать животных, быстро помчалось прочь, мгновенно скрывшись за красными муравейниками и темно-зеленым терновником. Мы не нашли и следа крови. Я потратил несколько часов, разыскивая тушу, пока не стало слишком темно и не пришлось возвращаться в лагерь под добродушные насмешки приятелей. Лишь на следующий день мы обнаружили подстреленное животное по кружению стервятников. Он упал ярдах в ста от того места, где я стоял. Я попал прямо в сердце. Такое часто бывает, когда попадаешь в сердце: животное на всем бегу останавливается и, незамеченное, падает в траву. Туша была разодрана на части и перемазана кровью, слизью и экскрементами. Только длинные изящные рога говорили о том, что это был за зверь. Не имело смысла вырубать их. Я так и ушел, испытывая странное двойственное чувство: удовлетворение, что не ударил в грязь лицом перед друзьями, и разочарование из-за потери. Это было даже не просто разочарование. Глубокая, неприятно саднящая печаль о чем-то прекрасном, пропавшем столь нелепо.
Впрочем, когда охотишься, это тоже входит в условия игры. Никогда не знаешь, удастся ли что-нибудь добыть или вернешься с пустыми руками. Смерть непредсказуема. Все сводится к простейшим первоосновам.
И потом, вечера в лагере, мясо, подвешенное на ветвях деревьев, поленья, горящие высоким пламенем. Еда, выпивка, приятная мужская компания. А позже, ночью, жутковатый смех шакалов и вой гиен. Ты погружаешься в мир простейших измерений. Смерть день и ночь витает в воздухе, и ты привыкаешь жить рядом с ней. Через несколько дней можно возвращаться домой. Но пережитое продолжает жить в тебе, где-то глубже самих снов, коренясь в крови и костях. Африка — простая и пугающая истина.