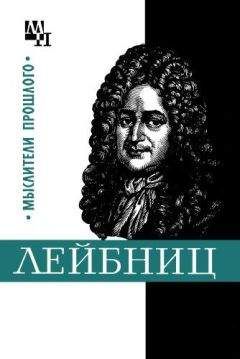Ознакомительная версия.
Филозоф так осерчал, что перестал даже воспринимать то, что Афсиомский продолжал говорить с нарастающей торжественностью. И, лишь когда увидел, что Ксено прижимает руки к груди, расслышал завершение фразы: «…только потому, что речь идет о событиях чрезвычайной государственной важности, о мой Вольтер!»
Он отвернулся от генерала к окну, словно хотел уже сейчас попрощаться с пейзажем. Как хорошо он стоял здесь, этот NULLE ME TANGERE, посреди сей великолепно округлой бухты; кому он мешал?! И как одиноко, как уныло стало здесь без этого корабля!
Афсиомский осторожно приблизился: «Мэтр, перед отплытием барон передал вам строго конфиденциальное письмо».
Вольтер сломал печать и вытащил лист с водяными знаками Императорского двора. Записка гласила:
«Мой мэтр, то, о чем мы с тобой так жарко рекли напоследок, то есть излишняя феминизация нашего века, вынуждает меня покинуть сии берега, даже не попрощавшись. Никогда не забуду твоих слов, обращенных к Ея Величеству и ко мне, Ея покорному слуге.
Твой Фодор».
Вольтер вдруг взбодрился, сбросил ночной колпак, взбил хохолок, закричал слугам: «Давайте, давайте, открывайте все окна и двери! Сейчас мы узнаем, попутный ли ветер дует в их паруса!» Он зашагал через анфиладу комнат к восточным окнам. Сильный ветер, встречный, дул от поднимающегося солнца. Ксено протянул ему подзорную трубу: «Попробуй, обшарь горизонт! Может быть, ты еще увидишь их мачты».
Вольтер сделал вид, что увидел, хотя восток только слепил трубу. Он отдал прибор верному служаке престола и заглянул ему в вытаращенные очи: «Скажи, Ксено, это была она?» Теперь уже настала очередь Афсиомского ответить молчанием.
Глава одиннадцатая и последняя знаменуется явлением вельми припозднившегося персонажа. Фокусы утопии уступают место историческим деяниям
В Ригу «Не тронь меня!» пришел с двумя сломанными реями на фок-мачте: обратное плаванье тоже задалось неласковое. На траверзе Кенигсберга погас безмятежный июль, наперекор бугшприту, словно татарское нашествие, помчались стаи трехсаженных волн, сопровождаемые к тому же сильнейшими разрядами небесного электричества. Коммодор Вертиго, почитай, все это время до входа в створ Двины провел на мостике, отдавая парусные команды и ободряя экипаж собственным присутствием. Светские развлечения Остзейского кумпанейства были забыты в первый же час шторма, и он был тому даже рад: мгновенно быв продут ветром, просолился и, что греха таить, значительно лучше себя чувствовал, чем в котильоне, — как-никак своя стихия. Глядя на обломанные и повисшие в снастях реи фока, он думал на родном языке WE GOT IT СНЕАР и вслух добавлял девиз своего корабля — эвонноэво!
Что касается главного пассажира, тот проявлял во время шторма вполне уже вроде привычную мужественность, поднимался время от времени с трубкой в зубах на мостик, созерцал стихию, ободряюще подмигивал чинам экипажа и даже похлопывал по плечу капитана; ну, словом, сущий морской волк! Если ж на лике его и повлялась озабоченность, то она, похоже, относилась отнюдь не к положению корабля, а к каким-то неумолимо, несмотря на шторм, приближающимся трудностям государственного ранжира, перед коими, как известно всякому служилому лицу, блекнут любые катаклизмусы природы.
Даже такой, едва ли не катастрофный момент, когда при неожиданном повороте ветра затрещали реи, не поколебал сей рыцарский характер. Будучи у себя в каюте, он просто скакнул из своей койки, отпустил пару шуток по адресу стонущих на ковре своих унтеров — дескать, ослабела младость после светских шалостей, накинул первый попавшийся под руку кафтан и стал пробираться по скрипящим и как бы вылетающим из-под ног трапам на капитанский мостик.
Там его встретили неласково. Вертиго проорал прямо в лицо отнюдь не в придворной манере: «Эппенопля, барон, вы что, не видите — аврал! Убирайтесь прочь, в каюту!» Он увидел, что мачты корабля висят под острым углом над беснующимся морем, что иные паруса сорваны, а другие бесцельно хлопают, рождая звуки, подобные пушечным выстрелам, что сломанные реи болтаются в снастях, но в то же время мокрые матросы и офицеры карабкаются по вантам с каким-то неистовым весельем. Нет-нет, они не собираются тонуть, нет-нет, Ваше Императорское Величество, не к погибели они плывут, а к победе! Неизбежная государственная мысль осенила его: «Вот так и Россия, доннерветтер, вместе со всей Европой и с матушкой-государыней за рулем, HE опрокинется!» Спрятавшись за намертво принайтованными к палубе ящиками аварийного запаса, он продержался на мостике, пока корабль не выпрямился, убрав часть своих парусов и вздув оставшиеся. Только после этого барон стал спускаться в свою каюту. На трапе опустил руку в карман кафтана, надеясь найти там фляжку с ромом, но вместо оной пальцы нащупали намокший плотный конверт. Послание было запечатано сургучом прусской государственной канцелярии. Он сломал сургуч и вытащил лист, покрытый знакомым нервическим почерком вкупе с пятнами расплывшихся там и сям чернил. Письмо начиналось без обращения:
«В сиих чертовых (пятно) обстоятельствах я не знаю, как к Вам (пятно)…ращаться, а посему выбираю почти забытое дурац… (пятно)…днако…льстительное…ечко.
Фигхен!
Что за детские избрали Вы игры, дабы встретиться со старым…(пятно)…ахаль…олтуно… в самом центре серьезного европейского конфликта? (Далее пошло почище.)
Вряд ли кто-либо в мире знает сего Нарцисса лучше меня. Пусть он гений, но кто давал гению право думать, что вся Европа у него в долгу? Думал ли он когда-нибудь о последствиях своих парадоксов? А известно ли Вам, что на континенте есть множество облеченных властью остолопов, готовых начать войну за право отужинать с «электрическим лебедем мира»? У нас в Священной Римской империи множество придурковатых маркграфов и фюрстов в мыслях своих уже ведут многолетние подобные войны, ввергая в нищету своих граждан и разрушая идею объединения. В метафизическом плане эти войны уже кипят, творя невосполнимые прорехи в человеческом сознании.
Неужели Вам не приходило в голову, что ваше квазисекретное Остзейское кумпанейство приведет не к величию и процветанию, а к разрушению просвещенной монархической утопии? Козни вашего эмиссара, известного нам под именем Ксенофонт Василиск, даже в течение одной прошедшей недели произвели разрушительную работу в области наших многолетних концепций, поставили под вопрос гипотезу дружбы двух наших держав. Не далее как в прошлый вторник два ваших агента учинили полный хаос в нашей исторической крепости Шюрстин, столь дорогой сердцу каждого пруссака.
Фигхен!
Напомните, прошу Вас, Вашей молодой и не особенно сведущей в европейских делах Государыне — ведь она была девочкой увезена из сего хлопотливого муравейника на волчьи просторы России, что в одном близлежащем государстве у нее есть родственник, известный, с легкой руки все того же гениального болтуна, как Фридрих Великий. Только в союзе с ним она сможет добиться своих, как мне передавали оттецкие жуки и чайки, весьма величественных целей.
Позвольте мне и Вам напомнить, барон, что Ваш старый дядюшка Фрицци все еще помнит неотразимость Ваших морковных ланит.
Все люди — братья, кроме тех, кто сестры,
Однако есть, увы, особый нежный вкус
В двоюродной толпе, сем машкераде пестром,
Где всякий шут готовит свой фокУс.
Ваш…» (Пятно, пятно и еще одно большое пятно, как будто кто-то высморкался чернилами в бумагу).
***
Лишь после того, как «Не тронь меня!» встал на якорь в виду готического силуэта Риги, коммодор Вертиго почувствовал непреодолимую свинцовую усталость. Отдав последние распоряжения вахте, он, еле волоча насквозь промокшие ботфорты, спустился в свою каюту, осушил чару голландского джину и рухнул на кожаный диван. Во сне он не чувствовал ничего, кроме бесконечной прошедшей качки с провалами и взлетами да налетающего временами родового имени VERTIGO, то есть головокружения, которое уже не представляло опасности, а, напротив, как бы умиротворяло: дескать, нынче уж можно и покружиться в блаженном бессилии.
Проснулся он не на диване, а в собственной чистой и теплой постели. Штормового мокрого одеяния не было больше на нем, душу и тело грели ночная рубаха и вязаный колпак. Сквозь шторы пробивались лучи мирного утреннего солнца. Дневальный принес чашку горячего чаю с молоком, после чего сна не оказалось ни в одном глазу. Блаженствуя и предвкушая несколько дней стоянки, потребных для починки такелажа, коммодор принялся облачаться в загодя приготовленное сухое платье. Малость беспокоило только одно обстоятельство: лучи проникали в каюту не с той стороны, с коей им надлежало проникать, то есть не с востока, а с запада.
Лишь поднявшись на мостик и увидев сверкающие на солнце шпили и кресты рижского града и крепости Динаминде, коммодор сообразил, что светило скорее склоняется к горизонту, чем поднимается над оным, и что в Курляндии нынче царит скорее закат, чем восход. В подтвержение тому на мостик в роли вахтенного начальника взлетел скорее лейтенант фон Кокк, чем лейтенант фон Бокк, уже отстоявший, стало быть, ночную вахту.
Ознакомительная версия.
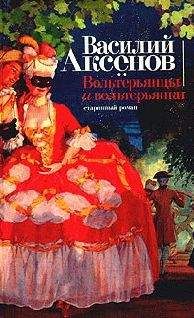
![Александр Прозоров - Трезубец Нептуна [= Копье Нептуна]](https://cdn.my-library.info/books/108530/108530.jpg)
![Александр Прозоров - Трезубец Нептуна [= Копье Нептуна]](https://cdn.my-library.info/books/107258/107258.jpg)