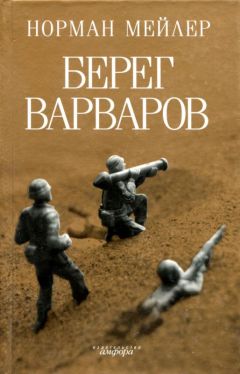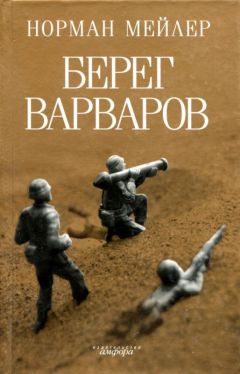— Да, давненько, давненько мы вот так не сидели, — не без натуги выдавила из себя Гиневра после, наверное, десятиминутного молчания и множества неодобрительных взглядов в мою сторону. — Вот так, по-семейному, — добавила она.
Маклеод кивнул. Монина тем временем усиленно пыталась вскарабкаться к нему на плечи, для чего запустила к нему в волосы обе ручонки и уперлась ногами ему в живот.
— Да, — сказал он наконец, — давно мы вот так не собирались. — Безусловно, после того что ему пришлось пережить накануне, да и вообще за последнее время, он предпочел бы оказаться в роли ведомого в милой семейной беседе. Тем не менее, понимая, что помощи от Гиневры ждать не приходится, он все же попытался хоть немного оживить разговор. — Интересно, — обронил он как бы невзначай, — тебе нравится, когда мы собираемся вот так, как сегодня?
— Ну да, все нормально, — холодно ответила Гиневра.
Не знаю, что было тому причиной — мое ли присутствие или же яркий солнечный свет, прорывавшийся в полуподвальное окно и бивший в ковер под ногами под каким-то диковинным углом, — но Маклеод почему-то решил пообщаться с женой как человек совершенно ей посторонний. В общем, ни ему, ни ей не удавалось хоть сколько-нибудь убедительно скрыть терзавшую обоих скуку и обоюдное желание оказаться в этот момент где угодно, только не здесь и не в этой компании. Вследствие такого настроя и твердого желания преодолеть его между супругами завязался вялый, но затянувшийся надолго разговор — источник раздражения для нее и бессмысленная трата времени для него.
— Должен заметить, что большую часть своей жизни я старался избегать подобных моментов, — официальным тоном начал беседу Маклеод, — и не могу не признать, что в былые годы образ уютного домика-коттеджа где-нибудь в пригороде навевал на меня невыносимую тоску. Меня трясло от всех этих залитых солнцем лужаек, крыш с крылечками и, главное, от этих чертовых папаш-мамаш с потомством, распиханным по коляскам. Увы, в таком виде предстает окружающая реальность человеку, который решил, что его предназначение если не перевернуть этот мир, то как минимум значительно изменить его к лучшему. Живописная картинка семейного счастья повергала меня в ужас: неужели и я таким стану? Объективная же реальность была еще хуже: я отдавал себя отчет в том, что, окажись успешным то дело, которому я посвятил свою жизнь, и его конечный результат будет для меня чудовищен, ибо миллионы и миллионы прозябающих в нищете людей смогут жить весьма достойно с материальной точки зрения. Они получат возможность построить себе вот такие омерзительно уютные домики и преспокойно заживут в них, наводнив мир миллионами и миллионами провонявших детским дерьмом колясок. Это еще один аспект того бесконечного парадокса, который представляет собой жизнь профессионального революционера. Мы создаем тот мир, в котором нам самим не будет места, мы просто не сможем существовать в нем.
Гиневра зевнула.
Монина зачем-то стала барабанить кулачком по его грудной клетке, и Маклеод, перехватив руку девочки, перенацелил обстрел на свое плечо.
— Вы, конечно, можете сказать, что гуманитарная функция социализма, — судя по всему, эти слова Маклеода были обращены уже не к супруге, а ко мне, — заключается в том, чтобы поднять, подтянуть человечество до страданий более высокого уровня, ибо, принимая во внимание гипотезу, что человеку изначально свойственны трагически неразрешимые внутренние противоречия, мы получаем выбор между пустым желудком и не менее пустой головой. Наполнить и то и другое, увы, практически невыполнимая задача.
— Ты опять за свое? — заметила Гиневра.
— Нет-нет, — заверил Маклеод, — я действительно что-то увлекся. На самом же деле я всего лишь хотел сказать, что становлюсь взрослее и, как бы это выразиться, мягче. Ибо несмотря на все то, что кажется мне в обывательской жизни неприемлемым, подобные семейные беседы, да и вообще время, проведенное в кругу семьи, уже не вызывает во мне былого раздражения. Рискну даже заявить, что такие семейные посиделки могут быть мне даже по душе, по крайней мере, если они не затягиваются чрезмерно.
Судя по выражению лица Маклеода, он сам далеко не был уверен в том, что произносит эти слова искренне. Его мрачный взгляд был устремлен куда-то вдаль, а губы непроизвольно искривились, словно он был вынужден глотать хинин или какое-то другое горькое лекарство.
Гиневра была напряжена до предела. Мне казалось, что руки ее заняты не шитьем, а плетением аркана.
— Вечно ты так говоришь, что я ровным счетом ничего не понимаю, — пожаловалась она.
— Ну что ж, может быть, тебе будет более понятно, если я скажу, что виноват во всем был только я, не ты.
Гиневра словно проснулась.
— Ты к чему это клонишь?
Она бросила быстрый взгляд в мою сторону, а затем вновь уткнулась в шитье.
— Беверли, я только хочу сказать, что признаю свою вину в том, что не уделял тебе достаточно внимания и нежности. Всего того хорошего, чего ты, несомненно, заслуживаешь. И еще: я обещаю, что сделаю все возможное для того, чтобы изменить свое поведение и свое отношение к тебе.
Она подозрительно посмотрела на него, затем на меня, а затем вновь на него. Когда она заговорила, голос ее звучал весьма недовольно.
— Я уже давно заметила, что ты любую элементарную мысль можешь превратить в настоящий кроссворд. Вот только скажи на милость, с чего это ты решил сообщить мне о том, что намерен начать новую жизнь, именно в тот день, когда у нас в гостях Ловетт?
Монина тем временем слезла на пол и стала играть с ботинками Маклеода. «Пух-пух-пух», — громко пыхтела она и хихикала.
— Почему я заговорил об этом в присутствии Ловетта? Согласен, это вопрос. И мне почему-то кажется, что на этот вопрос есть несколько вариантов ответа. — Эти слова прозвучали напряженно и неестественно, пожалуй, слишком неестественно даже для Маклеода. Он чем-то напоминал какого-нибудь жреца, совершающего обряд возвращения молодости постаревшему ловеласу, но не знающего наверняка, есть какой-нибудь толк в его заклинаниях или нет. — Беверли, я давно хотел тебя спросить, ты еще помнишь, что ты чувствовала в то время, когда мы с тобой только-только поженились?
Гиневра напряглась и на миг так и застыла с иголкой в поднятой руке, словно прислушиваясь, нет, по-змеиному принюхиваясь к какому-то новому запаху, появившемуся в комнате. Насторожившийся зверь навострил уши и превратился в зрение, обоняние и слух, не в силах до поры до времени понять, чего ждать от этого нового запаха — хорошего или плохого. Наконец ее губы — тонкие и бесформенные, отметил я про себя, впервые увидев их ненакрашенными, — невесело разомкнулись и прошептали:
— Может быть, что-то я и помню.
— Помнишь-помнишь, если постараешься, то обязательно вспомнишь, и вспомнишь очень многое. К сожалению, я сам отбил у тебя охоту к таким воспоминаниям. Давай лучше я тебе сам напомню. Когда мы с тобой поженились, ты была готова разделить свою жизнь и судьбу с другим человеком, то есть со мной. Это был тот короткий период — наверное, единственный в твоей жизни, — когда, как мне кажется, ты действительно могла по-настоящему влюбиться. Я же предал твой порыв и убил в тебе эту способность. Тебе нужен был человек, способный дать тебе многое. Я же не дал тебе практически ничего.
— Да. — Судя по всему, признание Маклеода вызвало в ее душе лишь горькие воспоминания о потерянном счастье. Помолчав, она мрачно добавила: — У тебя был шанс.
— Я знаю, но мне нужен еще один.
— Еще один? — фыркнув, переспросила она. — Ну ты даешь.
— Я прекрасно понимаю, что у тебя есть все причины с недоверием относиться к моим предложениям, — сказал Маклеод, — но я уверен и в том, что тебе по-прежнему нужен тот тесный эмоциональный контакт, который я когда-то не смог тебе предложить. Беверли, вспомни, были ведь моменты в нашей жизни, когда ты не была со мной несчастлива. Ну, например, вспомни хотя бы то путешествие на какой-то старой полуразвалившейся машине, которую я купил буквально в первый же год после свадьбы. Помнишь, как было здорово?
Было похоже, что он сумел затронуть какие-то струны в ее душе. По едва заметно изменившейся позе Гиневры, по тому, как она чуть иначе сложила руки на груди, я почувствовал, что ее обуревают противоречивые чувства.
— В моей жизни было столько мужчин, которые дарили мне множество прекрасных минут и дней! — заявила она с вызовом в голосе. — Что бы там ни говорили, это женщина создает мужчину, а не наоборот.
Почувствовав по тону, с каким супруга возражала ему, Маклеод понял, что она страшно соскучилась по его просьбам и мольбам.
— Я прекрасно понимаю тебя, Беверли, и ты отлично знаешь, что, когда я произношу эти слова, я действительно так думаю. В конце концов.
прожитые нами годы чего-нибудь да стоят. — Я услышал эхо разговора, который мы вели с ним о его жене накануне. — Если хочешь, мы можем попытаться начать все заново.