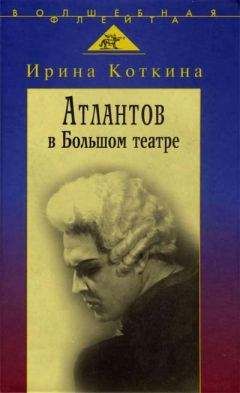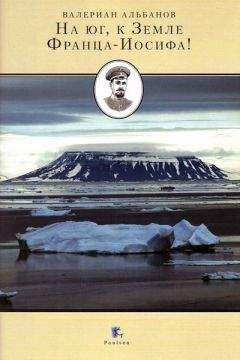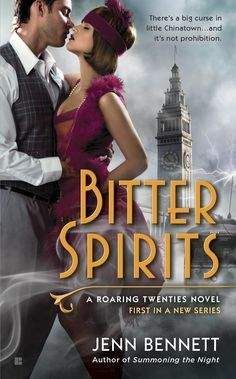И прибыл к пятиэтажнику, в котором на втором этаже ютилась в однокомнатной квартире Баба Света, оказавшаяся стройной, миловидной женщиной лет сорока, с безупречным маникюром. Квартира сияла чистотой. Мебель в квартире была, по местным… не только местным… стандартам совершенно шикарная. Над роскошной двух… трехспальной кроватью возвышалась шведской выделки, цвета слоновой кости, книжная полка — с книгами, не с хрусталем. На прикроватном столике стояла бутылка французского вина и недопитый бокал. Баба Света застеснялась именно неубранного вина — и моментально бутылка и бокал куда-то исчезли.
— Доброе утро, — сказала она. — Ишь, чадушко, как все тебя любят… Дядя домой привел… принес… Проходите, молодой человек…
— Мне некогда, — сказал Эдуард, ссаживая Федьку на пол. — Честное слово.
— Вы торопитесь?
— Да, очень. Но я обязательно зайду еще, может быть на следующей неделе.
И женюсь на вас, подумал он мрачно.
Знаем мы этих окраинных красоток. Акулы.
Он перешел через детскую площадку с заклинившей механической каруселью и сломанными качелями и углубился в переулок. Окраинные переулки проектируются широкими, поскольку в последнюю очередь строителями окраин учитывается комфорт пешеходов. Главное — автомобиль. Некрасов прав, с этим пора кончать. А грязищи-то сколько! Казалось бы — остров частично каменистый, болот нет, почва в меру жирная — все это месиво что, специально сюда привозят самосвалами? Был я как-то в Италии. Итальянцы — страшно безалаберный народ. Но если строят — и в центре, и даже на окраине — грязь только на метр вокруг. У нас на километр. При этом, опять же прав Некрасов — итальянская грязь едкая, сволочь, смывается с трудом, видно сразу. Поэтому каждый запачкавшийся сразу видит — нужно одежду стирать, свежую одевать. У нас, если осторожничаешь, грязью будешь покрываться медленно, не очень заметно, и явного, резкого желания сменить одежду нет. Так и ходим в слегка грязном. На окраинах, во всяком случае. Дитя окраин, уж я-то знаю. Уж мне-то не знать. Впрочем, наводнение… да… Только бы они не вышли без меня. Выйдут… думать не хочется. Прихожу — а там она лежит в кровище… нет, не буду думать. Я сказал, что вернусь сразу. Я и возвращаюсь сразу. К черту этот переулок, пройду два квартала по вон той улице, так оно ближе. Вода вся ушла, а ноги мокрые и начинают мерзнуть. Нужно бы побежать, но это привлекает внимание. Впрочем, если бы там, за рекой, следили за этим местом, давно бы уже валялся простреленный.
При выходе на улицу Эдуарда чуть не сбила воющая сиреной пожарная машина, несущаяся на всех парах к «Русскому Простору». Эдуард отскочил к стене и с удивлением посмотрел машине вслед. Обернулся. Сверкнули фары — в том же направлении ехала другая пожарная машина. И тоже с сиреной. А за ней третья.
Это хорошо. Возможно, при свидетелях эти скоты постесняются стрелять. (В детей, подумалось ему, но он отогнал от себя эту мысль — слишком унылые логические построения она вызывала).
Он пошел быстрым шагом, крепился, и все-таки не удержался, и перешел на бег.
На площади перед «Русским Простором» пожарники, не очень суетясь, чего-то устанавливали, вынимали шланги, матерились. Одну пожарную машину подогнали почти вплотную к горящему углу гостиницы. А между машинами, на виду у всех, возникла и стала двигаться через площадь странная процессия. Во главе процессии шел отец Михаил — походкой такой степенной, что только посоха не хватало — чем не Тангейзер, Моисей, или Папа Римский. За ним шествовали Демичев и Кашин, при этом Кашин чего-то добивался от Демичева, мучил его вопросами, а Демичев болезненно улыбался. За журналистом и офицером в отставке следовали Некрасов и Милн, несущие на сорванной с петель (наверняка Милном) двери (кухня, подумал Эдуард) биохимика Пушкина. Аделина вела под руку прихрамывающую Людмилу. За ними топал охранник, озираясь. За охранником топала, сгорбившись, Марианна, за Марианной развязной походкой, руки в карманах, Кудрявцев — и Нинка рядом с ним. Амалия замыкала шествие, окруженная детьми и Стенькой, который мало чем, помимо роста, от этих детей отличался.
Держа дистанцию в восемь метров, за шествием следовали толпой три матроны, время от времени покрикивая на детей. Неизвестно, почему они решили идти отдельно — может, так само собой получилось.
Неожиданно Нинка отделилась от шествия и закричав истошно и радостно, «Васечка!» кинулась и повисла на шее у одного из пожарников.
— Пойдем, Эдуард, — сказал отец Михаил, поравнявшись с Эдуардом. — Тех, кто остался, подберут, если надо — окажут помощь, остальное — судьба. А мы никому больше не нужны. Кроме, пожалуй, певуньи. Да и Стенька-истерик выпутается, таких на Руси любят, уникальных.
— Я тоже выпутаюсь, — сказал Эдуард.
— Как знаешь.
— Что это вы, святой отец, в пророки заделались? Повезло вам, только и всего. Кто же знал, что из Новгорода прибудет пять этих сараев? В Белых Холмах всего одна пожарная машина и есть, и приехала она последней. Удивительно, что мотор у нее завелся. Вряд ли по нам будут стрелять там, дальше, — он показал рукой, — там народ сейчас на улицы выходит.
— Рассуждаете вы складно, — похвалил отец Михаил.
— А вы думали, это вашими молитвами все случилось? Бог, думаете, помог? Бог в такие дела не вмешивается.
— Вы точно знаете, в какие дела Он вмешивается?
Эдуард пожал плечами.
— В одном прав ваш дружок, — задумчиво сказал отец Михаил.
— Какой дружок?
— Истерик. Вот вы, Эдуард, вроде бы неглупый молодой человек, много видели на своем веку, многому научились, разные люди с вами все время. А все равно не верите. И кроме как Знаком Зверя я, положа руку на сердце, ничем это объяснить не могу.
— И вы туда же!
— Не замедляйте шаг.
— Я не замедляю.
— Сперва мы дойдем до моста. Потом перейдем через него. А там до Новгорода рукой подать, да и машины шныряют постоянно. В конце концов…
— Да. Кречет. Но его возьмут живым. Он кому-то все еще нужен. Уж не знаю, кому.
— Да, мне тоже так показалось.
— От лунного света… замлел небосклон, — напевал Пушкин в бреду, лежа на импровизированных носилках. — О выйди, Низетта… о выйди, Низетта… скорей на… — Он вдруг осмысленно посмотрел в небо. — И говорит она мне, начальственно так, а подхалимы кругом лыбятся скептически, говорит она — ведь вы же биохимик. И так подбоченилась еще, гадина жирная. Губы лоснятся. Ну и что же, говорю я ей. А она говорит, ну вот скажите, в генетическом смысле, кто я? А я ей говорю, в генетическом смысле вы ебаное говно, и говорить мне с вами скучно. Как она взовьется, как зарычит, сука, копытом топ…
Солнце выползло из-за туч и неохотно, лениво стало обогревать Белые Холмы. И все равно было холодно. Неуемный Стенька, воспрянув по непонятной причине духом, обошел полукругом Аделину и пристроился к Некрасову, несущему передний край двери, транспортирующей Пушкина.
— Ну вот вы мне скажите. Вот скажите. Любовь к Родине — это плохо?
— Это очень хорошо, — заверил его Некрасов, у которого болели запястья, локти, и бицепсы. — Это прекрасно. Я бы вообще ввел такую графу в паспорте — индекс любви к Родине. От одного до пятнадцати. И налоги бы брал в соответствии с этим индексом.
— А без шуток…
— А я без шуток. Надо же как-то развлекать народ.
— Ну, вам-то, нерусскому, этого не понять.
— Вы все-таки скажите, с чего вы взяли, что я не русский.
— А вы сами сказали.
— Когда это?
— Да вот… как-то… Ну, хорошо, а значит, по-вашему, Родину любить не нужно? Можно, но не нужно?
— Эдуард! — позвал Некрасов.
— Чего вы, чего… — неприязненно и даже слегка испуганно сказал Стенька. — Как что, так сразу Эдуард…
Эдуард подошел.
— Смените меня, — сказал Некрасов. — А то у меня руки сейчас отвалятся.
Эдуард перехватил край двери.
— Осторожно! — предупредил Милн сзади. — Я, между прочим, тоже не двужильный. Стенька, помоги Эдуарду. Кудрявцев! Помогите мне!
— У меня больная спина, — возразил Кудрявцев.
— Ну, я помогу, — отец Михаил подошел и взялся за край двери. — Хотя, вообще-то, мы достаточно далеко ушли, и можно было бы вызвать скорую.
— Я пытался, — сказал Милн. — Пять минут назад. Мне сказали, что так далеко они не поедут.
— Это куда ж вы звонили?
— Думаю, что в Новгород.
— А в Белых Холмах что же, нет скорой помощи?
— Есть, но она так рано не работает.
Процессия чуть приостановилась, а затем опять начала двигаться с прежней скоростью.
— Как измерить любовь к Родине? — риторически спросил Стеньку Некрасов. — Можно сколько угодно говорить — готов ради Родины на то-то и то-то. Но говорить все умеют. А делать? Можно рассказывать про то, как на защиту Родины положил жизнь. А только глупо. Отдавших жизнь за Родину среди нас нет, если логически рассуждать. Стало быть, не мерило. Можно измерить любовь к Родине данного индивидуума количеством деклараций этой любви в письменном и устном виде. Но это, опять же, пиздеж. Мало ли, кто, что, и где декларирует. Самое простое, лучшее, удобное мерило — деньги.