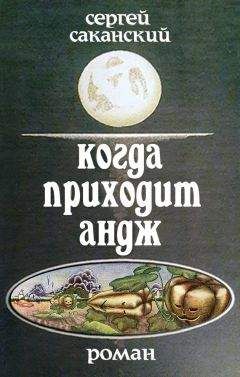Ознакомительная версия.
— Ай да Петри! Ай Петри! Ай!
Вот почему Козел-гора и по сей день носит название Ай-Петри…
— Но дело не в этом, — продолжал Стаканский, обнимая Аделаиду за плечо. — Меня глубоко взволновал твой рассказ, детка. И вот что я подумал. Мне кажется, как ни дерзко это звучит, Платон был все-таки не прав. То есть, он угадал сам механизм, конструкцию мира, но неверно выбрал точку, в которой помещается человек. На самом деле — и это мое глубокое убеждение — мы находимся не в дольнем мире, не в этой мрачной пещере, где движутся тени, а в мире горнем, и именно мы и есть те самые существа, которые проносят загадочные фигуры перед входом, то есть, я хочу сказать, что этот ужасный, этот проклятый мир и есть предел Вселенной, и выше нас, как это ни страшно, — нет ничего.
Аделаида задрожала. Сигарета вывалилась из ее рта, глаза замерцали слезами.
— Неужели ничего? Неужели там ничего нет, милый?
— Ничего, — спокойно сказал Стаканский. — Нет ни Бога, ни Дьявола, ни Ада ни Рая, — на чем я и завершаю этот долгий и серьезный разговор о строении Вселенной. То, что было создано двадцать миллиардов лет назад, не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас. В начале было слово, и слово это было Свояк. Никто не ставил никаких экспериментов, и вовсе никаких целей. Мы даже и не бред некой безумной головы, поскольку и головы-то самой нет. Ничего нет. Ничего нет и не было никогда. Никогда — именно так звучит на русском языке этот совершенно убийственный анапест.
Аделаида теснее прижалась к Стаканскому, ее слезы обильно потекли по его груди, путаясь в волосках, Стаканский нежно гладил женщину по спине, мало-помалу ее скорбь переросла в возбуждение, она села на мужчину верхом и, перебирая ногами, будто ища стремена, с долгим протяжным воплем отдалась ему, уже третий раз за эту ночь…
В углу комнаты, в колыбели, зашевелилось какое-то тряпье, и Стаканский с изумлением увидел девочку лет трех, пристально глядевшую на них. У нее были большие, расширенные от ужаса глаза, она вдруг улыбнулась и простерла вперед ручонки, радостно воскликнув:
— Папа!
Аделаида, будучи на вершине своего оргазма, застыла, сведя лопатки. Она медленно оглянулась и, пронзив девочку испепеляющим взглядом, злобно прошептала:
— Спать стерва! Убью!
В этот момент стало окончательно ясно, что в комнате начался пожар. Опрометчиво брошенная сигарета прожгла в одеяле небольшую брешь, тление, как опухоль, расползлось по ватину, на несколько минут двумя голыми людьми овладела паника, они молча и трусливо бегали на кухню за водой, потом, часто дыша, проветрились на веранде, девочка уснула на коленях у Стаканского, от нее исходил запах прелого персика, хотя в апреле этот плод еще только замышлялся природой.
— Ее зовут Анжела, — сказала Аделаида, нежно погладив дочь по волосам.
Когда Стаканский вошел в комнату покойного, ему почудился сладковатый трупный запах. Пишущая машинка на столе уже стала зарастать паутиной, рукописи покрылись нежным пушком известковой пыли. Покойник имел привычку грызть за работой ногти и, вероятно, боясь расстаться с частицами своего Я, складывал их в специальную банку — за жизнь накопилось почти пол-литра ногтей…
За жизнь накопилась полка папок, это были невинные юморески, сочиненные специально для местной газеты и в ней же опубликованные под псевдонимом «Сверчок», несколько серьезных рассказов и повестей, роман в работе, исчерканный вдоль и поперек — с милыми смелыми пассажами, двусмысленностями, сборничек стихов, который покойник, похоже, готовил к юбилею города и безуспешно пытался опубликовать, сочинив несколько заглавных стихотворений, в коих прославлял именитых мафиози Южного Берега…
Как сквозь застывшую воду, из-за зеленого стекла на столе смотрел на него Михаил Мыльник в десятках своих обличий: Мыльник в Тамани у домика Лермонтова, Мыльник за чтением в купе поезда, Мыльник с Анатолием Кимом, Мыльник за обеденным столом между Пастернаком и Набоковым, молодой, гениальный, уже заявивший о себе.
Это можно было объяснить либо стремлением пустить окружающим пыль в глаза, либо заподозрить писателя в нарциссизме, если учесть, что прямо перед рабочим местом на стене висело небольшое зеркало, либо представить более сложный психологический казус: не для того ли, чтобы сориентировать себя на долгий подвижнический труд, изготовил он эти довольно грамотные фотомонтажи?
Все три версии были равноправны. Разнообразие предметов мыльниковского кабинета подтверждало его последнюю мысль о векторном поле, неопределимости человеческого характера и т. д. Стаканскому захотелось поближе познакомиться со своим предшественником и он устроил в комнате обыск, результатом которого стала еще одна, тщательно продуманная и высокохудожественная штука: одни предметы он переменил местами, другие — изъял, чтобы уничтожить, несколько вещей попросту украл. Он также перевесил зеркало, теперь оно наполнилось видом из окна — куст олеандра, нисходящие кровли, сапфирный треугольник моря с силуэтом судна, в любой миг готового медленно оторваться от глади и взлететь. В нижнем внутреннем дворе соседнего дома медленно брела по своим делам кошка, и какой-то приезжий грузин избивал ногами белую женщину, приговаривая: «Будиш ябаца? Будиш? Будиш?»
Стаканский заменил фотографии на вырезки из газет с псевдонимом «Сверчок», и чтобы еще больше запутать действительность, поместил туда заметку о гибели самолета Петербург-Ашхабад, этой бездарной, ненадежной машины. Он присвоил маленький интимный ларец, где были любовные письма, предметы дамского туалета, скабрезный дневничок неудовлетворенного, закомплексованного мужчины, отлично сознавая, что, приобщив эти предметы к собственной коллекции, он формирует не только Мыльников, но и свой литературный образ.
Остаться здесь, подумал он. Взять чужие рукописи, пишущую машинку, квартиру, воспоминания детства, имя и лицо… Мыльник встал и прошелся по комнате, потирая руки. Мыльник подошел к окну и увидел сидевшую на корточках Аделаиду, которая, серьезно жестикулируя, учила дочку, как правильно снимать трусики и садиться на горшок. Почувствовав взгляд мужа, она улыбнулась и погрозила ему пальцем.
Он взял с полки пухлую папку и взвесил ее на руке. Таким тяжелым может быть лишь труд всей твоей жизни. Он прочитал титульный лист: «Каменный гусь. Роман-галлюцинация. Посвящается А.М.»
Он прилег на оттоманку и принялся читать.
Каменный гусь был чудом техники, мечтой самого изощренного, самого похотливого тирана. Это был универсальный аппарат, умеющий на довольно большом расстоянии не только улавливать инакомыслие, но и пресекать его, внушая надежность, добропорядочность. Тех, кто не поддавался внушению, Каменный Гусь призывал к себе, действуя через подставных лиц. Попав наконец во двор Лубянки, жертва видела высокую кирпичную стену, цемянковый постамент с двумя цветочными урнами по сторонам и его — на самом деле похожего на какого-то каменного гуся — Каменного Гуся, серого, с бронзовой воронкой на голове… Издав продолжительный и лунный звук «У-у-у-м!» — Каменный Гусь умерщвлял жертву.
Герой романа, Роман Рассольников как раз и оказывается неподдающимся. В один прекрасный миг мир изменился к нему, словно развернулась некая метафорическая избушка на курьих ножках — меткое сравнение. Друзья предают его, женщины ему изменяют, события начинают развиваться так, чтобы заманить Рассольникова на Лубянку. Совершая огромные круги по огромному городу, он постепенно, по спирали приходит к кирпичной стене и видит цемянковый постамент, две безвкусные цветочные урны и гладкокожего, щедро облитого лунным сиянием — Каменного Гуся.
«И в тот миг, когда за спиной раздался пронзительный и лунный крик, и острие этого крика вошло ему в затылок, мгновенно оборвавшись глубоким напряженным молчанием, Рассольников родился — весь в собственном захлебывающемся звуке, выйдя в ощутимый поток мощного белого света, и сильные руки безликих акушеров в марлевых полумасках приняли его, бордового, раскаленного, первыми усилиями разрывающего родильную рубашку, и Елизавета, отметив, что она стала матерью — и матерью долгожданного сына, облегченно вытянулась на столе, проваливаясь в здоровый и упоительный сон.»
Рождение вместо смерти было довольно неожиданной, смелой концовкой. Перевернув последнюю страницу, Стаканский тотчас открыл первую и снова вдумчиво перечитал текст. Он увидел, что все действие романа метафорически отражает развитие плода в материнской утробе, его преджизненные галлюцинации, разговоры снаружи, страхи матери, которая там, внутри, трансформировалась в Елизавету, возлюбленную героя.
Роман был бездарен, утомителен, загроможден реминисценциями и аллюзиями и, будучи ассоциативно замкнут сам на себя, читался с невероятным трудом. Автору постоянно изменяло чувство вкуса: казалось, что подтягиваясь на ручонках, он высовывает из-за букв свою маленькую мертвую голову и кричит: Посмотрите на меня! Это же я — это я!
Ознакомительная версия.