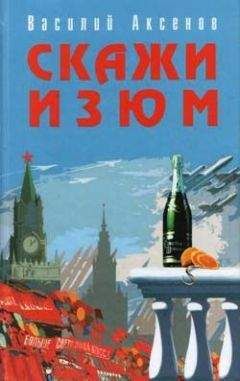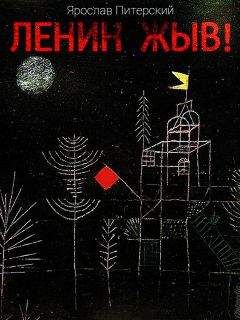Ознакомительная версия.
…Ай кэнт хелп бат сарпрайз, устало и, конечно, почесывая под мышкой, произнес Конский. Разрабатывает сложный оборотец, вспомнил Огородников. Не могу не удивляться, чем вызвано появление этой коллекции, говорил Конский. Ее составители – баловни советского фотоискусства, официальная, так сказать, оппозиция при дворе, кх-кх, икскьюз ми, ее величества партии. У них в СССР было все – слава, деньги, чего им еще не хватало?… Скорее всего, этими людьми двигала жажда международной известности, других объяснений у меня нет…
По харе, по харе, вцепившись в Настино плечо, бормотал Огородников, в следующий раз – просто по харе!
Однако, продолжал Конский, рядом с московскими звездами в альбоме, кх-кх, икскьюз ми, кстати, почему изюм, почему не арбуз, в общем, здесь много и новых имен, есть свежий воздух… нужно детально рассмотреть… после соответствующей обработки новой переводческой техникой… не исключен определенный интерес…
Мастера, пояснила тут репортерша, как показалось слушателям в Москве, не без некоторого смущения, очень требовательны друг к другу, но еще более они требовательны сами к себе. Мы передавали репортаж из нью-йоркского Сохо о вернисаже в связи с выходом в Москве независимого фотоальбома «Скажи изюм!». Вела репортаж Семирамида Наталкина.
Едва лишь затих заокеанский гул, в квартиру с открытыми ртами, всклокоченные, клокоча диким возбуждением, стали врываться «изюмовцы». Через полчаса полы уже ходили ходуном. Собирались по одному, по двое, неслись как бы в трагическом порыве сказать товарищам последнее прости, но, оказавшись все вместе, конечно, раздухарились, и теперь в разных углах квартиры вспыхивал вроде бы не подходящий к ситуации хохот, а на кухне распечатывались бутылки и опустошался холодильник. Дело плохо, ребята, говорили друг другу. Хуже не придумаешь. Горим, как шведы. Хуже-хуже. Положение хуже губернаторского. Много хуже, много! Эх, сейчас бы в это сраное Сохо, пахать меня в ухо! Раньше надо было думать, Моисей! Из Союза попрут, это точно! Из какого Союза? Если из основного… молчу! В «Фараоне», ребята, издадимся, да за это и на союз можно положить… А бабки какие-нибудь нам светят? Светят, держи! У меня вот джинсы светятся, хоть бы джинсы прислали…
Ты видишь, Макс, все к нам примчались, вздохнула Настя. Неумолимый ход событий, пробормотал Огородников с каким-то тоже вполне неестественным легкомыслием. Он тоже был возбужден и тоже хохотал на слово «плохо» – ох, плохо-хо-хо… и думал со злостью: Конского надо разоблачить! Рассказать, как «Щепки» топил!
В очередной раз зазвонил телефон. В трубке молчали. Это, наверное, Сканщин, сказал Огородников и крикнул: чего сопишь, Вова? Отбой. Ну, теперь начнется, лицо Огородникова опустилось, сразу постарело на десять лет, никуда от них теперь не уйдешь. Настя повисла у него на плече. Я знаю одно место, Огоша. снова зазвонил телефон. Говорил Андрей, Древесный:
– Ну, теперь ты доволен? Запустил свою аферу на полный ход, а мы должны выкручиваться?
– Ты что, Андрюха? Ты что?
Пораженный какой-то неудержимой враждебностью старого товарища, Максим еще некоторое время бормотал бессвязные «да ты охерел», «что ты несешь», хотя в трубке слышались гудки отбоя.
За окном пронесся мгновенный снежный вихрь. Сильный фонарь с близкой стройки освещал тяжело раскачивающиеся ветки клена. На одной из них висела замерзшая, окостеневшая в какой-то омерзительной форме тряпка. Взгляни, Настя, пробормотал он, кивая на тряпку и пальцем тыкая в нее. Экая кикимора! Да просто простынка сорвалась с верхних балконов, успокаивала она его. Сорвалась и застряла, вздор, чушь, никаких символов.
Утром проклятая тряпка оказалась прямо перед глазами, потому что спать свалились прямо в кабинете посреди пустых бутылок и пепельниц с окурками. Засыпанная снегом, она еще больше скукожилась и стала походить на изрядного шакала. Солнце желтком стояло над стройкой, по верху которой двигалась пара ленивых фигур. По свежей кладке уже протянута была какая-то красная гадость.
Бычков навалом, сказала под боком Настя довольно хриплым, чуть ли не проституточным голосом. Начав недавно курить, она этим делом чрезвычайно увлеклась и по ночам и по утрам собирала окурки, «на всякий пожарный», а то вдруг без курева останешься, как тогда жить?
Огородникова это почему-то раздражало, он и сейчас заорал: выброси все немедленно к этой, к той, всю эту, ту, иначе – по жопе!
Зазвонил телефон. Одновременно дернулись четыре ноги. Нет, это невозможно. Поедем в церковь, Настя, простонал Максим, мне очень в церковь хочется. Поедем, конечно, сказала она, давай поедем в Коломенское. Дрыхнешь еще, спросил в трубке ленивый, под стать похмельному утру баритончик. Октябрь?! Январь! Кажись, не «лонг дистанс», прикинул Огородников, автоматику Москва давно обрезала, если бы звонил из-за границы, прежде влезла бы телефонистка. С приездом, Октябрь! Поздравь с отъездом, усмехнулся голос полубрата. Как прикажешь понимать? Объясню при встрече.
Договорились встретиться вечером у «мамульки». Максима неприятно резануло забытое слово. С юношеских лет он называл свою родительницу Капитолину Тимофеевну только лишь «мамой», без всяких «очек», а то и просто «матерью», в то время как развязный и шикарный Октябрь величал всегда мачеху «мамулькой», и той это определенно нравилось. Странным образом Капитолина Тимофеевна всегда старалась держаться с родным сыном в рамках, как она сама это определила, «корректных отношений», а вот с пасынком, что был всего лишь на десять лет ее моложе, была запанибрата и называла его Рюшей, то есть производным от невероятного Октябрюши.
– Максим, я не одобряю твоих планов на каникулы!
– Ну, знаешь ли, мама, я уже взрослый человек!
– Рюша, ну объясни же ему! Ну, Рюша!
– Шатапчик, мамулька, у мужчин свои дела.
– Ну, может быть, ты и прав, Рюшка такой!…
Итак, у мамульки в шесть, сказал Октябрь. Да почему именно… там, кисло спросил Максим, хотя и согласился уже. Ну, ты даешь, хмыкнул Октябрь. Совсем, выходит, забыл «Вишневый Огород»?
Так они когда-то, в счастливые сталинские времена, когда никакими диссидентскими страданиями в семье и не пахло, называли свою огромную шестикомнатную квартиру в серой домине на площади Моссовета, поблизости от теоретической твердыни Всесоюзного института марксизма-ленинизма, где их общий папаша способствовал поступательному ходу истории. Многое помнила историческая площадь, в том числе и прозрачную ночь 1949 года, когда в разгаре борьбы против космополи-тизма у коня основателя Москвы князя Юрия Долгорукого отпиливали чугунные яйца, чтобы не стала лошадь тридцать лет спустя легкой добычей фотографа-формалиста.
К назначенному часу Максим и Настя приехали на площадь и запарковали машину возле ресторана «Арагви». Любопытно, что мать не видела в глаза ни одной из моих жен, припомнил он, кроме Виктории Гурьевны, а с этой уникальной особой они, кажется, дружат и по сей день. Пересекая пешком заснеженную площадь, они увидели, разумеется, и «фишку». Все те же дурацкие приемы – сидят в своей тачке, закрывшись газетами.
В подъезде Огородникову показалось, что он участвует в каком-то старом фильме. Как будто старый фильм, почему-то шепотком сказала Настя. Вот здесь, между колонн, просится портрет Сталина. Почему тут сидит милиционер? Тут всегда сидел милиционер, громко пояснил Огородников, охраняя самых равных среди равных. Сейчас тут самых равных нет, но парочка занюханных министров осталась. Ему показалось, что и милиционер не изменился, все тот же вроде «Михалыч», вот сейчас скажет: неужто Максим?
– Вы к кому, товарищи? – спросил милиционер.
Конечно, «Михалыч» давно уж на пенсии. Мы к Огородниковым, к Капитолине Тимофеевне. Одну минуточку. Мильтон снял трубку, не отрывая от них взгляда, проникнутого доброжелательным гебизмом. Октябрь Петрович, тут к вам двое молодых интересных. Есть! Пожалуйста, товарищи, четвертый этаж.
Октябрь встретил их в дверях. Я вас из окна углядел. С кем это, думаю, наш чувачок хиляет? Мда, не перевелись еще женщины в русских селеньях. Это моя жена Настя. Прекрасно, значит, я могу ее поцеловать? Приятный пожилой господин иностранец, подумала Настя. Он провел их в гостиную и сразу отошел к буфету. Что будете пить? Есть мексиканская текилья с червяком.
На первый взгляд Октябрь Огородников выглядел как американский профессор политических наук с либеральным уклоном. Твидовый пиджак в «селедочную косточку», рубашка «батонсдаун», английские башмаки с дырочным узором, все поношенное, дорогое, удобное и, очевидно, любимое. Затем можно было заметить то, что отличало его от академической среды, – намек на пижонство, плейбойство: выстриженные усики, аккуратный пробор, разделяющий седоватые, как бы молью траченные волосы, перстень с черным камнем, часы из черного металла. В принципе, он так и остался, как был, стилягой 50-х годов, несмотря на столь активную роль в борьбе за торжество «мира и социализма».
Ознакомительная версия.