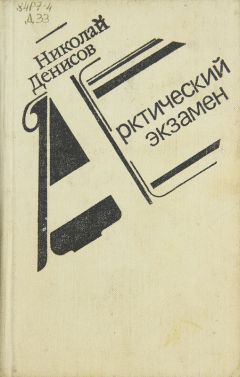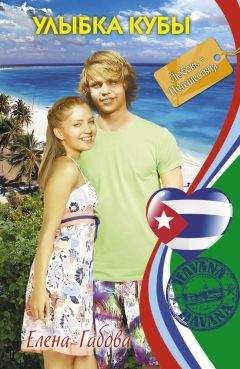Размышляя о тепле каюты, Глушаков ступает на трап и неожиданно, не находя опоры, проваливается куда-то в преисподнюю. Падая, он успевает подумать, как купоросно — зеленая ледяная хлябь вот — вот накроет его с головой. Руки инстинктивно ищут спасательной зацепки. И находят. И он висит уже над водой, уцепившись за буксирный трос, не решаясь почему-то звать на помощь. Он еще пытается перехватиться покрепче, но эта шуба — угораздило надеть сегодня шубу! — чугунной тяжестью давит книзу, сковывает движения. Он успевает еще глянуть на палубу ледокола, — та по-прежнему пустынна, и, наконец, падая в воду, не выдерживает:
— Помоги — ите — е!
Мертвым холодом обдает не сразу. Он думает еще, что крик получился стыдливо — жалобным, не крик вовсе, а какой-то вопль, непристойный для пожилого человека. Вынырнув, он видит надвигающуюся волну, на которой блином крутит его кепку. Голова сразу замерзла.
— Куда? Куда — а? Держите круг!
Это Вася Милован собрался к знакомому мотористу ледокола, тот обещал ему коробку «Золотого руна» — на память о походе. Вася как раз и вышел па полубак станции.
Спасательный круг упал далеко от деда, и Вася видит, что тот даже не отреагировал. Глушаков греб к берегу.
— Куда? Обратно надо, обратно — о…
Но дед, кажется, освоился со своим положением и молча давал круги, похожий на вольготно чувствующую себя в родной стихии нерпу.
Вася уже — на «Буслаеве», кидает за борт канатную лесенку.
— Плывите обратно! К борту плывите…
Но не тут-то было!
— Эй, повымерли, что ль, фраеры!
Милован сбросил уже шубу, сковырнул с ног ботинки, разделся до плавок, когда возник бегущий человек.
Хрипло взорвалось в динамике:
— Тревога! Человек за бортом!
А Вася уже плывет на подмогу деду. Размашисто, будто силясь выскочить из воды, плывет Вася.
— Не толкайся, не толкайся. Растолкался тут! — выплевывает воду Глушаков, почему-то противясь помощи. То ль от страха, то ль от ледяной воды несет околесицу.
— Подгребайте к борту! — злится Вася, подтягивая его за рукав.
Подали длинный шест, и Вася, уцепившись за конец, тянет деда к веревочной лесенке.
— Не толкайся! — зябко огрызается тот, развеселив неожиданно собравшийся на палубе народ.
— Ай да моржи! — уже пробует кто-то шутить, когда сильные руки матросов подняли Глушакова из воды.
Накинули на Васю полушубок и повели обоих в сушилку «Северянки». Доктор со спасателя принес баклажку со спиртом. Спросил о самочувствии и приказал принять из баклажки «сколько душа желает».
Разводит пар котельный машинист. В последний раз разводит, он тоже завтра улетает вместе с палубной командой. И теперь нагоняет жаркого духу во все закоулки станции, словно в память о себе…
А они лежат на горячих батареях сушилки и молчат. В иные дни было здесь шумно, матросы развешивали сырые куртки и ватники, а теперь Пятница приволок матрацы, завалил пострадавших одеялами.
— С крещением вас! — И ушел.
— Согреваешься, Василий? — наконец ожил дед.
Вася подрыгал ногой под одеялами, подавая знак, что «живой», чувствуя, как растекается по телу потеплевшая кровь.
— Хык! — откликается под одеялами Милован — опять, мол, дед понес околесицу — и, выпростав руку, тянется к баклажке
— Вася, ты слышишь? Ты у меня вроде крестника теперь. Будешь у меня в семье, всегда приму лучшим образом.
— Да ладно вам!.. Где кока посеяли? Тут его невеста дожидается.
— Какая невеста?
— Нина Михайловна прилетела из Москвы… Полномочный представитель треста! — Вася опять хмыкнул и неожиданно запел:
Я помню тот Ванинский порт
И борт парохода угрюмый…
— Вася, — позвал дед, — ты чего это?
Тот не ответил. Вася жалел себя. Он вспоминал свою жизнь. Короткой еще была Васина жизнь.
В коридоре за дверью шелестели по линолеуму шаги.
— Смотрите-ка, поют, Нина Михайловна! — сказал там, за дверью, Пятница. — Может, навестим? — он взялся за скобку.
— Пусть еще погреются, пусть! — остановила Нина Михайловна. — Бедненькие.
Стонет ветром ночь. Последняя для палубной команды. Первая ее — опять на борту «Северянки».
Добралась она сюда еще днем. Удивительно было, как это разминулись с Виктором? Вообще разминулись на пристани со всеми! Пятница рассказал ей, как ходили они по городу, как Виктор остался еще «погулять», но промолчал о полученном им письме. Он видел, что она печалится, старается не подать виду, но печалится, и он уже несколько часов занимал ее разговорами.
— Кто еще из ваших улетает? — она хотела спросить, брал ли билет на самолет Виктор, но не решилась на прямой вопрос. Пятница понял.
— Бузенков чемодан укладывает. Мещеряков ждет перевод на билет.
— Не жаль расставаться?
Она подумала, что опять выдала свою печаль. А ведь себя спрашивала: не жаль?
Пятница подумал: «Красивая женщина! И любит! Любит же… Куда смотрит Виктор?»
Под утро ветер стих «и — на небо выкатила ясная луна. На «Северянке» никто не спит. Глебов с командой давно собрали чемоданы, ходят отрешенно — торжественные. Не сидится им. В мыслях они уже далеко, предвкушают другие встречи.
Посмеиваясь, заходят в рубку «пострадавшие». Распаренные от жары и крепкого сна, они все же стараются держаться бодро, но виноватый взгляд деда выдает их состояние.
Сюда же поднялись Иван с Ниной Михайловной. Давно попыхивает сигаретой Бузенков, смущается, как всегда, Миша Заплаткин.
Иван испытывающе посматривает на «героев», о которых только и разговоров было уходящей ночью. Они вроде бы даже ростом сравнялись. Шерстяной олимпийский костюм деда висит мешковато — осунулся, похудел Глушаков. Жестковатый взгляд Милована, который всегда тревожил Пятницу — не по годам суров человек, тоже несколько смущен и растерян, словно он виноват в приключении деда.
Нина Михайловна с любопытством поглядывает на молодых парней, они как-то неожиданно резко обозначились своим возрастом на фоне Глушакова и Пятницы. «Какие еще мальчишки! — думает она. — Вот так же Нюра Соломатина говорила: ребятишки, ах ребятишки… Но идет жизнь, катится». Она подумала еще, что у нее не все еще позади, хотя, — господи! — двадцать восьмой год… Катится, катится… Тогда в Нефедовке ждала — приедет Виктор. И вот теперь — сама, сама… Как все сложится дальше, как?
— Здравствуйте, — говорит Вася, обращаясь сразу ко всем.
— Давно не виделись, ага! — отвечает Пятница и весело щурит глаза.
Луна катится за сопку. По истонченной лунной дорожке, в которую подлил молока рассвет, идет катер. На баке его — все вдруг увидели — стоит, прислонясь к леерам, стоит кок «Северянки». Напряженно стоит Сапунов, твердо.
К трапу станции, заранее подготовленному матросами, идет палубная команда с чемоданами. Из рубки тоже хлынули на вольный воздух, пропуская вперед женщину.
Вот сейчас, вот еще несколько мгновений…
По сердцам ударило синью, морем, живым миром.
Гусь — верхняя зимняя одежда с капюшоном, которую сибирские рыбаки и оленеводы надевают поверх полушубка или телогрейки.