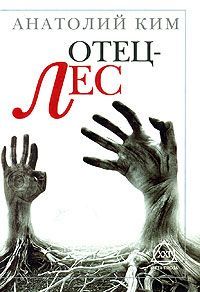Но, в отличие от первого, второе рождение души Серафимы Грачинской происходило не в красивой, сильной девочке с пепельно-серыми, с золотым отливом, блестящими волосами, а в неопрятной идиотке с волосами седыми, в мутной перхоти, и столь редкими, что сквозь них виднелась исцарапанная, в струпьях, кожа на черепе. Много лет никто из окружающих не знал о том грандиозном процессе возрождения человеческой души, который начался от единственного сохранившегося в её памяти атома прошлого: пения кукольной женщины, которая жила в своей патефонной комнате, вход куда начинался в железной ямке у задней стороны патефонного ящика. Но однажды врачи лечебницы увидели, среди них и Александр Сергеевич, что безнадёжная идиотка ходит по коридору в тапочках, придерживает отвороты халата на груди и свободно вступает в разговор с санитаркой Акулиной, которая самодовольно посмеивалась и хвасталась, что это она выдрессировала больную и научила её разговаривать.
Далее потянулось время, когда врачам представлялось, что на их глазах происходит исключительно редкостное в медицинской практике ренессансное зачинание нормальной психики из хаоса безумия, обусловленное, очевидно, загадочными ресурсами человеческой природы. Серафима Грачинская не только восстановилась в речевых навыках и вновь начала соблюдать гигиену, но и принялась помогать санитарке Акулине следить за поведением больных женщин в палате. И однажды она предотвратила суицидную попытку той, у которой внутри жили тараканы, – больная где-то нашла трёхкопеечную монету, отточила её о край железной койки, словно бритву, и пыталась этим оружием распороть себе живот, в котором кишмя кишели рыжие прусаки. Когда она, сидя на койке, задрала больничную рубаху и наклонилась меж своими широко разведёнными коленями, Серафима Грачинская прыгнула на неё через кровать соседки, чей злорадный смех жил в отдельности от неё, прячась в темноте возле ночного горшка. Перелетев через соседку, Грачинская успела схватить руку тараканьей мученицы, которая, закрыв глаза от предстоящего ужасного зрелища, приложила лезвие монеты к туго обтянувшей живот бледно-синей коже. За этот поступок Акулина дала Грачинской сладкую ватрушку из своих припасов и погладила по голове. И тогда Серафима Грачинская попросила, указав пальцем на заветную дверь: пусти меня туда.
Незачем тебе туда, ласково отвечала Акулина, рассеянной рукою отстраняя от двери свою подопечную, которая вдруг упёрлась и стала сильною, непоколебимою, словно Акулинина тётка, Царь-баба, которая недавно прислала из деревни письмо: "Привет и нижайший поклон мой племяннику Савостьяну Кондратичу, также племяннице Акулине Кондратовне. Кланяется вам тётка ваша Олёна Дмитриевна. Войну я пережила, слава Богу, не померла, как многие другие, потому работа была ужасная и всех гоняли на лесоповал, и девок, и баб нематошных, кому детей не кормить. А теперь на счастье наше война кончилась и лес рубить гонют пленных немцев, которые ужасно как мрут, потому их летом комарик поедает, а зимою хворма ихняя не греет, больно сукно тонкое, и шапок на них нету…" Акулина с удивлением воззрилась сквозь очки на упёртую перед нею, словно скала, небольшую женщину в больничном халате, с виду нисколько не напоминающую тётку Олёну, но такую же спокойную и такую же страшноватую в этом спокойствии неимоверно сильных, словно бы и не люди они, загадочных существ.
Однажды в девках подслеповатая Акулька, тогда ещё не носившая очков, услышала на улице гармонь и, быстро схватив с печки платок, проскочила тёмные сени, сбежала с крыльца, барабаня пятками по деревянным ступеням -мигом выскочила во двор и там со всего размаху налетела на Царь-бабу, которая только что вошла в ворота, пригнув голову. Акулина-девка была такою же упитанной и плотной, как и впоследствии всю жизнь, уже легко таскала на себе четырёхпудовые мешки, к тому же вечерний разбег её навстречу звукам гармони был столь силён, что она могла бы, словно лесная веприха, пробить своим корпусом дыру в досках ворот – однако отскочила, ударившись об тётку, словно от каменной стены, и, отлетая обратно, наткнулась на старые сани, которые были от этого удара жестоко исковерканы. И, лежа на санях, Акулька расплакалась, потому что зад отшибла начисто, даже нечем было в этот вечер потрясти в пляске. Усевшись рядом с нею, Царь-баба утешала её: "Ня муташись, девка, ня ори, жопка твоя заживёт. А ты глянь, чего я тебе принесла! – и вытащила из-за пазухи огромной своей ручищею глиняного котика в шляпе, с высунутым красным языком, в полосатых штанах, с надписью на пузе: "Котъ астраханской". – Глянь Акулька, нахал какой! – умильно дивилась тётка на раскрашенную игрушку. – Нынче в Гаврине на ярмонке купила". Быстро вспомнив всё это, Акулина махнула рукою, поправила на носу очки и молвила печально: "Иди прогуляйся, да недолго, девка".
Там, за дверью, был длинный коридор, все выходы из которого охранялись, на окнах стояли решётки, и, очутившись в этом коридоре, впервые попав в мир совершенно неизвестный и странный, Грачинская тихо пошла по нему, внимательно приглядываясь к тем разрозненным предметам и человеческим фигурам, что попадались ей навстречу. Длинный стол, на столе носилки с ремнями; существо в мужской пижаме, сгорбленное и маленькое, не то старик, не то худенький юноша, одиноко стоит лицом к стене; полуприкрытая дверь, заглянув в которую она увидела такую же палату, в какой жила сама, но здесь на койках лежали молчаливые мужчины с неподвижными глазами, уставленными на неё, – лежали почему-то на газетных листах, брошенных поверх железных сеток кровати. Пройдя до конца коридора, Грачинская заозиралась, не зная, что делать, куда ещё попытаться заглянуть. Она полагала, что найдёт Александра Сергеевича, как только пройдёт сквозь заветную дверь, но всё оказалось не так, и теперь стало совершенно непонятно, где его искать.
Она видела его достаточно часто у себя в отделении, но никаких особенных чувств при этом не испытывала, потому что это было одно, сей минуте принадлежащее. А то, что искала она, к чему стремилась, находилось где-то очень далеко. Он бывал на осмотрах вместо с другими врачами, приходил иногда один, что-то делал, с кем-то разговаривал, но она равнодушно посматривала на него со своей койки или проходила мимо, почти задевая его.
Он был рядом, и можно было даже к нему притронуться – но тот, которого она хотела достигнуть, к кому стремилась со всей своей затаённой страстью, _находился далеко_. И ему, наверное, это было известно также, поэтому он столь равнодушно смотрел в её сторону, словно бы вовсе не замечая её. Она должна была как-нибудь исхитриться и прийти домой к нему -тогда _он_ и будет самим собою; а сейчас, почти ежедневно встречаясь с нею, он не _тот_, по крайней мере _ещё_ не тот, каким он будет впоследствии, когда она однажды обретёт возможность прийти в его таинственный дом, где живёт в патефоне маленькая женщина.
Она вернулась в своё отделение под наздор верной Акулины, которая удовлетворённо кивнула ей, – и прошло ещё несколько лет. Шли голодные послевоенные годы, внешний народ страны был охвачен терпеливым страданием, но пациенты старинного монастыря мало чего смыслили в этом, счастливо пребывая в своём собственном, придуманном мире. Тараканья бедолага так и умерла, не избавившись от лохматых полчищ коричневых прусаков, лазающих по всем ходам и изворотам её внутренностей. Чайник продолжала своё кипячение, давно уже лишившись матраса и сидя на голой сетке кровати – ей только на ночь выдавали теперь матрас, и то не всегда вспоминали про это. Злорадный смех по-прежнему прятался под кроватями, но в последнее время иногда сбегал из палаты, прошмыгивал под ногами дежурных санитарок и, припрыгивая по каменным ступеням монастырских лестниц и переходов, разгуливал по всему сумасшедшему дому. Хозяйка этого смеха слышала его как-нибудь в полночь или на рассвете – он звучал из раскрытой форточки окна, расположенного напротив того, за которым находилась потная, напряжённая как струна женщина, чей смех самовольно сбежал по длинным коридорам монастырского здания.
Неизвестным было для них, какие благодеяния или великие преступления совершал огромный внешний мир, – но в их палате наступили тяжёлые времена из-за голода и холода и, главное, из-за того, что помещица совершенно расходилась и не давала другим житья. Днём при надзирающем медперсонале вела она себя обычно, злобно сверкала на всех глазами, порою что-нибудь невнятное выкрикивала, словно трубила журавлём, и тут же отворачивалась лицом к стене и скрипела зубами. Ночью же, когда санитарки запирали двери палат снаружи швабрами и шли пить чай, помещица поднималась с койки и, расхаживая по проходу, как злой дух, отдавала свои ужасные распоряжения. "Вот эту макаку надо верёвками распялить на полу в риге, – стоя над бедной трясущейся хозяйкой смеха, в подробностях объясняла помещица. – Растянуть за руки, за ноги и острым секачиком насечь её, голую, вдоль и поперёк. А потом принести ушат огуречного рассолу и полить её из ковшичка".