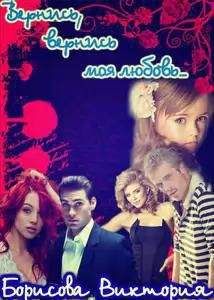Книга завершается большой поэмой «Звездное небо», где, как пишет в предуведомлении автор, «сделана попытка представить те образные впечатления, которые возникают <…> при чтении русских поэтов». Здесь звук тянет за собой смысл, а интуиция претворяется в определение. Этой поэмой можно заменить любой разговор о поэтическом вкусе и слухе. Более ста ожидаемых и неожиданных имен-стихов, каждое из которых — законченный портрет своей/чужой музыкально-словесной вселенной.
«Жерло пламенеет, сыплет пепел — / под пеплом умирает град. / Тлеет скрытым огнем. / Текут века… В пепле — / пустоты, / где были тела. / Живые пустботы: / страдают, надеются, думают, любят… / Баратынский».
Что же до метрического дыхания, то и оно веет как хочет:
В эту пору расставаний
Так нестрашно умирать.
Только сани — сани — сани
Надо сталью подковать.
Чтобы вынесли с размаха
С этих берегов на те —
Где ни стона и ни страха,
Только вихри в пустоте.
(Из стихотворения «Будет зима»)
Поэта и филолога Михаила Викторовича Панова не стало в год выхода этой книжки.
Корней Чуковский. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том шестой. Литературная критика (1901–1907). От Чехова до наших дней. Леонид Андреев большой и маленький. Несобранные статьи (1901–1907). Предисловие и комментарии Е. Ивановой. М., «ТЕРРА-Книжный клуб», 2002, 624 стр.
Нет, все-таки поразительные настали времена в смысле расцвета «чуководства и чуковедения»: идет собрание, вышел академический том стихов, полная «Чукоккала» и дневники, издаются эпистолярии и закрываются биографические лакуны. И это при том, что Чуковским-то серьезно занимается совсем небольшая группа людей, их всех можно усадить за один чайный стол. Может, и до «ЖЗЛ» вскоре дотянемся?
Нынешний, шестой, том открывает, как я понимаю, три книги в собрании сочинений, отданные той части литературной деятельности, которую Чуковский считал для себя главной: литературной критике, мыслимой им как часть литературы художественной. Радостное событие по части новой (на новом литературно-историческом витке) встречи с читателем и грустной по части историко-литературных ассоциаций: однажды шестой том уже был. Им закончилось шеститомное (1965–1969) прижизненное собрание сочинений. Цитирую фрагменты из дневника: «Пришла Софа Краснова (редактор. — П. К.). Заявила, что мои „Обзоры“, предназначенные для VI тома, тоже изъяты. У меня сделался сердечный припадок. Убежал в лес. Руки, ноги дрожат. Чувствую себя стариком, которого топчут ногами. Очень жаль бедную русскую литературу, которой разрешают только восхвалять начальство — и больше ничего» (запись от 24 июля 1968 года). «Я разложил на столе все статьи изувеченного тома. <…> Вообще оказалось все зыбким, неясным, но „Короленко“, „Кнутом иссеченная Муза“, „Жена поэта“ полетели теперь вверх тормашками» (2 августа). «С моими книгами — худо. <…> Шестой том урезали, выбросив лучшие статьи, из оставшихся статей выбросили лучшие места» (17 сентября). И — за неделю до смерти: «Вчера пришел VI том собрания моих сочинений <…> а у меня нет ни возможности, ни охоты взглянуть на это долгожданное исчадие цензурного произвола».
Теперь с шестого все только начинается. Это совсем молодой, двадцатишестилетний Корней Чуковский, тот, про которого — еще не знающий про их будущую дружбу — Блок писал, что у него, Чуковского, нет длинной, фанатичной мысли, что он-де, приехав из Одессы, лезет в «честную петроградскую боль». Это Чуковский разбега, хотя сборник «критических рассказов» уже переиздан в течение 1908 года трижды[28], уже выпущен «Нат Пинкертон и современная литература» (эта публикация будет по второму изданию, 1910-го, в следующем томе). Он еще нащупывает свой стиль, ищет интонацию, подбирает инструментарий. Конечно, многое здесь наивно, скороспело, поверхностно и отдает лихорадочным журнализмом. Но уже здесь эти недостатки выглядят лишь тонкими подгорелыми краями того славного литературного пирога, который замешивал и трудолюбиво-любовно пек Чуковский в течение почти тридцати лет (примерно до 1930 года).
«Есть такое мнение», что критический стиль «раннего» Чуковского замешен на фельетонности, что он карикатурен, а следовательно — критик не проникает глубоко в суть рассматриваемого явления. Тут же прилагается испытанный тезис, что К. Ч. силен в литературном «киллерстве», но не в созидательном разборе. Некоторая правота тут есть, но только некоторая. Евгения Иванова справедливо пишет в своем предисловии, что статьи Чуковского всегда были наглядны и доказательны, мысли не подкреплялись примерами и цитатами (скорее не только подкреплялись. — П. К.), а вырастали из детальной проработки произведения, надолго опередившей школу американской «новой критики» с ее «пристальным чтением». И вместе с тем «все достоинства Чуковского оборачивались недостатками, как только дело касалось солидной репутации, именно избранное критическое амплуа ставило имя Чуковского в один ряд с нововременским гаером Виктором Бурениным, хотя идейно и эстетически они не имели ничего общего».
К слову, спустя годы, говоря о самой первой книге Корнея Чуковского, Анна Ахматова заметит, что именно он, молодой критик Чуковский, провозгласил вхождение города в тогдашнюю литературу. Не пустяк.
Я прочитал этот том с теми же чувствами, с какими пересматриваю ранние фильмы Чаплина или разглядываю, если угодно, первые романтические картины Гойи. В разновеликих и разноречивых статьях, откликаясь на все мало-мальски значимые имена, события и книги, Чуковский, хотя уже и пытается, как он позднее напишет Горькому, «на основании формальных подходов к матерьялу конструировать то, что прежде называлось душою поэта», — все же пока еще только растет как личность в литературе. Он пока еще позволяет себе прямые провокативные ходы, расставляет самодельные «ловушки» и «мины», пока еще охотно делает и самого себя персонажем своих «критических рассказов». Но вот уже в следующем томе начнет проявляться его генеральная строго конструктивная система критических координат, звучащая примерно так: «Имярек как человек и мастер». Это приложится и к Чехову, и к Некрасову, и к боготворимому Блоку. И все равно даешься диву, как уже здесь он многое предсказал и обозначил. Если бы я мог, то процитировал бы целиком его убийственную статью 1907 года под названием «Спасите!» — о литературно-газетной сволочи.
Но — думаю, почему Михаил Панов в своем «Звездном небе» так оказался нежен к нему, Чуковскому, который, кстати, в свое время изничтожил его студенческий «опоязовский» труд («Корней Чуковский. / Синее вверху, синее внизу. / Бесконечно доброе небо. / Бескрайняя ласка воды»)? Может, потому, что в основе чуковской работы всегда лежала бесконечная любовь к словесности и ее талантливым выразителям? Не зря же он писал, что у художника руки готов целовать, не зря же на своей первой сказке «Крокодил» (1917) начертал: «Моим глубокоуважаемым детям…»
М. П. Бронштейн. Солнечное вещество. М., «ТЕРРА-Книжный клуб», 2002, 224 стр.
В принципе, эта книга, изданная в серии «Мир вокруг нас», — для детей среднего и старшего возраста. Так она задумывалась.
«Я расскажу о веществе, которое люди нашли сначала на Солнце, а потом уже у себя на Земле…»
«В январе 1896 года весь земной шар облетело странное известие. Какому-то немецкому ученому удалось открыть неведомые дотоле лучи, обладающие загадочными свойствами…»
«Кто и когда изобрел радио?..»
Это — зачины трех повестей, входящих в книгу; кроме рассказа о гелии здесь еще «Лучи Икс» и «Изобретатели радиотелеграфа». Когда-то, во второй половине тридцатых, в ленинградской детской редакции совсем еще молодой ученый, поддавшись настойчивым советам профессиональных литераторов, в частности того же Чуковского, попробовал себя в научно-популярном, как бы сейчас сказали, писательстве. Книги успели выйти из печати до того, как Матвея Бронштейна убили, как редакция «Детгиза» была разгромлена.
В прошлом году Е. Ц. Чуковская отправила академику Жоресу Алферову двухтомник своей матери, где был напечатан архивный «Прочерк» — документальный роман Лидии Чуковской о своем муже. Нобелевский лауреат и директор Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе отозвался письмом, которое было выставлено в Доме-музее Корнея Чуковского на традиционной первоапрельской выставке, подготовленной с В. Агаповым. «…Среди потерь, понесенных институтом и нашей наукой, убийство Матвея Петровича Бронштейна является одним из самых трагических и бесконечно тяжелых. Мы потеряли не просто замечательного ученого, писателя, человека, мы потеряли для страны будущее целой научной области. Для меня М. П. Бронштейн открыл своей книгой „Солнечное вещество“ новый мир. Я прочитал ее первый раз в 1940 г., когда мне было 10 лет. Мама работала на общественных началах в библиотеке, в небольшом городке Сясьстрой Ленинградской области, и хорошие книги „врагов народа“, которые ей приказывали уничтожить, приносила домой…»