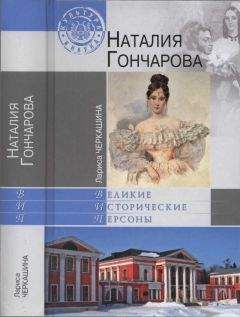Ознакомительная версия.
Вот и ухнули бы прямо по этим кварталам, где он теперь живет. Хотя — кому этот район нужен? Малоинтересный, непрестижный район.
А там они жили в самом центре, недалеко от правительственной трассы. По праздникам проснешься — и сполохи пламенного революционного света дрожат на подушке. Полумрак красный, чай в стакане кровавый, всюду плавают отблески, как раздавленная клюква. Окно затянуто кумачом, пылает, за ним бьются, трещат флаги.
В кухонном окне просвечивает гигантский левый ус, в коридорном окне — правый. Это усы дедушки Буденного, или дедушки Калинина, или дяди Берии, или дяди Молотова, или дяди Маленкова… Нет, дядя Маленков без усов. Олег еще совсем маленький, и он путается, но старается всех запомнить. Чтоб похвалила мама. Внизу толпа гудит, как пожар. Людей собирают на демонстрацию.
А главные усы и мудрая, доброжелательная, отцовская улыбка — посредине дома, на несколько этажей.
Во время праздников из подворотен выползают тайные люди, вроде колдунов. Мама, товарищ Поликарпова, объясняет, что это — спекулянты, жулики, частники. Частники — они как ведьмы и Кощей, как в сказках про до революции. Они занимаются злым сказочным делом: частной торговлей. Это им почему-то разрешается по праздникам. Частники продают прыгающие на резинке мячики из сморщенной креповой бумаги, бумажные вырезные веера, красных и зеленых леденцовых петухов на палочке, плетеные корзиночки. Леденцов нельзя: микробы. Резинка на мячике тут же рвется. Но соломенную цветную корзиночку иногда разрешают, и она такая яркая, что ее хочется полизать.
Мать обнаруживает преступление по зеленому языку и кричит: что за проклятущий ребенок, ему создали счастливое детство, а он не ценит. Это же анилин, отрава; заболеешь — мне некогда за тобой ухаживать. Выпороть тебя надо, выпороть, чтоб неделю сесть не мог. Непослушный, неблагодарный, ничтожный, наглый, несознательный, никому не нужный, несоветский мальчик.
Но его никогда не били. Только очень громко кричали.
На кухне уже звякает посуда — Зойка пришла готовить для гостей. И уже с утра пораньше включен ее вечный джаз. Старые трубниковские записи, непрофессиональные, с хрипом.
Как он ненавидит джаз; еще с той поры, со времен их юности… И не потому, что запрещено и опасно было — нет, сам, лично ненавидел. Варварская музыка, все наперебой.
A ведь тут джаз к классической музыке уже успели причислить. Тут что старше десяти лет, то уже и классика. Как будто нет разницы между серьезным искусством и эстрадой.
Зойка курит, отводя локоть в сторону странным, только ей свойственным движением. Ему кажется на секунду, что ей трудно очнуться от своей музыки, сфокусироваться, вспомнить — кто он такой, откуда взялся на своей, между прочим, собственной кухне.
Курит она вдвое больше с тех пор, как ее Трубников умер. Нормальная женщина, наоборот, испугалась бы и бросила. Тем более что здесь это совершенно не принято. Атавизм и бескультурье.
Сегодня придут гости. Олег одно время предпочитал общаться с новоприбывшими. Они почти всегда растерянные, впечатлительные люди. В этой стране есть своя иерархия, а у Олега всегда был на это нюх. Иерархия здесь зависит даже не от денег, как он раньше думал, и уж совсем не от культуры, это он сообразил сразу, — а от того, кто раньше приехал. Только что приехавшие всегда стоят на ступеньку ниже. Как во всех прочитанных им описаниях тюрьмы: новичка кладут у параши.
Он новоприбывших обычно просвещает. Про демократию им говорит. Так, будто лично ее изобрел и отстоял на реке Потомаке во время войны за независимость, с мушкетом в руках. Иногда самому смешно. Ведь в глубине души он не так уж и ассимилировался. На самом деле он считает демократию явлением очень милым и культурным, но, безусловно, несолидным, эфемерным. Временным. Он считает, что демократическая слюнявость и разговоры про равноправие хороши только до первого жареного петуха, который никогда не клевал эту избалованную нацию в ее упитанную задницу, но рано или поздно клюнет, обязательно ведь клюнет.
Пока он ходил на работу с девяти до пяти, ему казалось, что он в этой жизни полностью освоился и совершенно с нею слился. Но теперь его сократили и дали полпенсии. И выяснилось, что все контакты с местной жизнью и особенно с местными жителями существовали только в связи с работой и через нее.
Сойдя с протоптанной дорожки, он, как в первый год после приезда, оказался на воле, сам себе хозяин. Мир представлял собой невнятицу.
В первый год, когда Олег сам еще был новоприбывшим, если начинали говорить о чем-нибудь, что у него не помещалось в голове — а в голове у него не помещалось многое, у него оказался какой-то прокрустов ум, — он просто не слушал, отключался. Он не прислушивался к советам, как пассажиры в самолете не вслушиваются в описание спасательного жилета, кислородной маски и совсем уж безнадежного плавания в Атлантическом океане на сидении.
У непривычной мысли его прокрустов ум отсекал и конец и начало, и предпосылку и вывод, и оставшийся обрубок казался ему бредом: и вправду это был уже бред.
У него в голове тогда поехала табель о рангах — и обвалилась с грохотом, как стремянка. Потом Олег долго выстраивал новую пирамиду, но так и не восстановил абсолютной незыблемости…
Сегодняшних гостей он знает мало. Позвал их, чтоб познакомить с другом Толей, они могут заинтересовать его как потенциальные клиенты. Толя — человек на редкость общительный, хотя все его знакомые вскоре оказываются клиентами, на недоходные дружбы у него просто времени нет.
Главное, чтоб пришел сам Анатолий. Надо собраться с силами, поставить вопрос ребром. Вернее, надо собраться с умом. Назначить срок отъезда. Время уходит.
На теперешних событиях трудно сосредоточиться: проблемы тридцатилетней давности всё крутятся в голове, требуют решения. Мысленно выясняешь отношения и оправдываешься перед людьми, которые о твоем существовании уже забыли, которых, может, и на свете уже нет.
Раньше он так комфортно чувствовал себя во времени; время не было тогда враждебно. Он был беззаботен — даже ему в молодости была дана некоторая беззаботность, хотя бы в отношении времени. Тратил его впустую, валялся в нем, разметавшись, как ребенок на мягкой и безопасной постели.
Теперь он ощущает, что находится на самом краю своего времени, не видя этого лишь по слепоте своей, по темноте сознания. И он боится сделать резкое движение, большой шаг; боится планировать, чтоб не свалиться в затаившуюся рядом — но неизвестно, как близко и с какой стороны, — окончательную пустоту.
Ведь вот и мать — даже она умерла. Взяла и умерла, как обычный человек. Была на банкете, стало нехорошо, отвезли в ведомственную больницу, умерла.
Из людей, среди которых он живет теперь, реально мать видела только Зоя. Но теоретически товарища Е. М. Поликарпову помнят все…
После праздников дворничихи подметают пестрый разноцветный сор. Опять тихо звенят трамваи.
В песне поется: «Никогда, никогда не скучай!», но Олегу все время скучно. Он сидит на сером мраморном подоконнике и смотрит из окна вниз. Там, под сумрачными деревьями бульвара, прогуливаются парами группы крошечных гномов в остроконечных треугольных капюшонах. Это дети в прогулочной группе. Капюшоны на одинаковых детских пальтишках похожи на букву «А» или на крышу страшной избушки на курьих ножках.
В прогулочную группу его не записывают из-за микробов. Некогда матери возиться с больным ребенком, а Олег вечно квелый.
Буква «Я», с выпученным, как у буржуя, пузом, с нагло расставленными ногами, — последняя буква в алфавите.
Это мама объясняет, если он жалуется или просит чего-нибудь: «Я — последняя буква в алфавите». Маму зовут товарищ Поликарпова. У нее болезни на нервной почве. Нельзя оступиться, сотрясти эту нервную почву, болото болезней.
Все предстоящие сегодня разговоры — кроме разговора с Анатолием — Олег представляет себе заранее: что он будет говорить, что они будут отвечать. Что было, что будет, чем сердце успокоится… Он вообще очень многое теперь может представить заранее. Прошлое — его понять труднее, оно с годами меняется.
Лучше уйти до вечера. Пойти в торговый центр, где не жарко и не душно, сделать покупки к отъезду. Лучше не оставаться с глазу на глаз с Зойкой. Пусть она тут готовит.
Вот она сидит у стола, отдыхает перед уборкой. Сколько раз он просил Зойку, причем требовал, настаивал: следи за собой, не сиди в этой русопятой расслабленной позе. Здесь так не принято. Здесь люди всегда и везде контролируют свое лицо, всегда у них бодрый, заинтересованный вид. Но вот, опять: сидит. На лице забыто какое-то случайное выражение.
Олег берет аккуратно отпечатанный подробный список того, что Зое еще понадобится к вечеру, берет положенные рядом деньги. Это неприятно, но не может же он оплачивать Зойкину страсть к экзотической кулинарии.
Ознакомительная версия.