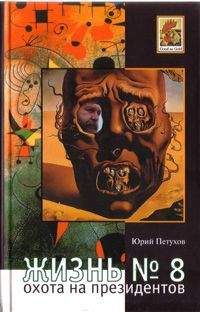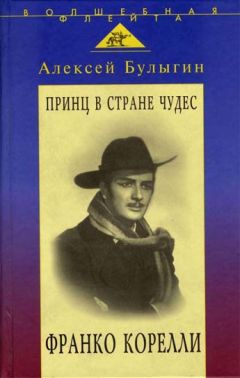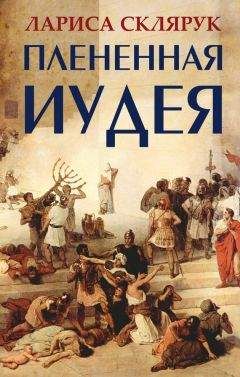Все думали, что он так и хотел раздолбить Ирак. Но на самом деле туда попадали те самые ракеты и бомбы, которые Заокеания направила на молодую Россиянии) и которые не долетели до неё. Почти никто не знал об этом. Только своим друзьям-партнёрам без галстуков, трусов и маек Антону Блейеру и Вове Калугину Буш сказал:
— Ничего, следующие долетят — мы в Россиянии новые двигатели заказали, от «протонов» и новые системы наводки, а в Ээстляянии новый наводной локатор поставили — так что обязательно долетят, дайте только срок!
И они тут же ратифицировали договор СНВ-33, по которому молодая Россияния в обмен на поставку миллиарда кубокилометров окорочков Буша, обязывалась уничтожить на своей территории все дороги, города и мосты…
Буш даже ласково попрекнул Калугина:
— Эх ты, коммунист!
Калугин дико перепугался. Он уже перевёл все свои сбережения и госказну в Заокеанию, а тут вдруг такое обвинение, за которое в демокрагическом мире сжигают на электрических стульях.
Но Буш разъяснил шутку.
— Как говорил ваш классик: «коммунизьм есть советская власть плюс электрификация всей страны», верно?
— Верно! — отчеканил Калугин. — Я свой партбилет ещё при сгарике Ухуельцине сжёг! И доложил о том в Госдеп.
— Билет сжег, и советскую власть демонтировал, всё так, — с ласковой улыбочкой проговорил Буш, — а кто электрификацию будет дезэлектрифицировать? Или опять за свои коммунистические штучки?!
— Я! Буду! — закричал Калугин. И тут же позвонил Тсу-байтцу с требованием немедленно и навсегда вырубигь все рубильники. — Мы и «лампочки Ильича» все перекокаем и провода сдадим в сырье! — истово заверил он партнёра.
— Ну-ну, — пробубнил тог.
Бушу уже было не до лампочек и шестёрок. Он уже шёл к порту, куда причаливали гри огромных ьвианесу-щих океанских лайнера цвета хаки с грузом из дворцов и музеев Шумера, Вавилона, Месопотамии, Ассирии, За-гроса, Персии, Палестины и окрестных окрестностей.
К сожалению, Моня был так же далёк от государственных нужд молодой Россиянии, как и партнёры гаранта в Заокеании. Поэтому когда санитары в очередной раз впихнули его в очередную палату, он несколько растерялся и скис.
— Нуте-с, батенька, с чем пожаловали?
Матёрый человечище в жилетке и галстуке в горошек, остановился перед Моней, держа большие пальцы рук за подтяжками, покачиваясь на мысках стоптаных башмаков и склонив лобастую голову мыслителя набочок.
— Вижу, вижу, батенька! Вы, верно, из ходоков! Ну, что там? Как молодая республика? Небось, голодает?! Матёрый ласково и хитро прищурил глаза. Моня сам с прищуром, испытующе, но не ласково поглядел на матёрого — уж больно картавит, не антисемит ли пещерный?! Рыженькая бородёнка и замусоленный горошек что-то напомнили ему, далёкое и киношное. Но до конца Моня так и не вспомнил. Целебные снадобья, что вкололи ему перед переселением были сильнее памяти, он вообще не понимал толком — где он: то ли в пещере Ус-Салямы бен Оладьина, то ли в чреве Храмовой горы заповеданного Ерец Исраеля, то ли в амстердамском трактире для дуремаров… хотя он не ощущал во рту и в ноздрях едкого и горького привкуса… нет, скорее всего, он был в питерском андеграундном подполье нацболов-постпацифистов и сейчас уже должны были выскочить голые девки в пионерских галстуках, бритые скины в цепях, с барабанами, лабухи в наколках с гитарами и прочие чада режима… а этот хер у них явно за фюрера!
— Да какой я ходок, — ответил Моня запоздало, вспомнив вдруг Самсона Соломонова, который пошёл на четвёртую ходку. Вот тот был настоящий ходок. — Террорист я, батя, международный!
Матёрый человечище в ужасе отпрянул от иезванного гостя и разом перестал ласково улыбаться. Какая-то патлатая старуха, троившаяся в Мониных глазах, забилась в угол, заплакала, запричитала и принялась судорожно креститься пятиконечным знамением, приборматывая: чур меня! чур!
Моня нащупал серую мягкую стенку, прислонился к ней спиной и медленно сполз вниз — в ногах у него правды не было. И голые девки почему-то не выскакивали. Нет, скорее всего, это не инстоляция… и не тайная чёрная вечеря… и не оргия в пещере… Вспомнился почему-то дед, который не вылезал из наркоматов и психушек. Тот бы сразу разобрался! Не то что нынешнее племя… уроды, блин! гнилое семя! И этот фюрер… наверняка, или санитар или вертухай, морда наглая, рыжая!
— А мы назло буржуям мировой пожар раздуем! — подхалимски прокартавил вдруг рыжий. И меленько, рассыпчато засмеялся, заглядывая Моне в глаза изнизу.
— Хер им раздуешь! — сомнамбулически отозвался Меня. — На каждого нашего у них сорок тысяч с дубинками.
— Э-э, батенька, куда хватили, — заегозил человечище, — а нам в семнадцатом легче было?!
Моня не успел ответить. Кованая дверь с зарешеченным окошком распахнулась и два санитара впихнули в палату обрюзгшего краснорожего и седатого мужика с оттопыренной нижней губой.
— Куда, понимашь! — гундел мужик и бессмысленными поросячьими, налитыми кровью глазенками озирал серое пространство. — Опять перешпунтировать?! Не-е да-амся-я! И-ех! Вредители!
Увидав матёрого в галстуке, он вдруг пошёл на него медведем-шатуном, задрав кверху лапы. Патлатая заверещала, забилась в истерике.
— Па броневик он, понимашь! — ревел краснорожий. — Хера твой броневик, бля-я! Ты на танк взлезь! Ты хоть танк-то видал, бля-я?!
И совсем уже было навалился на матёрого.
Навис над ним сущим аспидом.
Но в это время в палату сноровисто вошли другие санитары, в камуфляже и со стремянкой, деловито прошли мимо краснорожего и матёрого, влезли на свою лестницу и сняли икону со стены.
— Ироды-ы! — заголосила патлатая. Кинулась было вслед санитарам, споткнулась, уцепилась за край иконы. Но санитары недолго волокли старуху за собой. Тот, что был слева, не сбавляя ходу, пнул патлатую сапогом… и она отпала. Разом замолкла и успокоилась.
— Эта верна, — сказал вдруг тоже успокоившийся мужик-шатун, — заместа этого мене надо повесить.
— И повесят! Непременно повесят, батенька! — заверил его матёрый человечище с хитроватым прищуром. Краснорожий сразу обмяк, полез целоваться. Пока они обнимали и лобызали друг друга, Моня напрягал все силы слабеющего мозга и терзал ускользающую память — видел! где же он видел этих кретинов? Нет, снадобье вышибло из мозгов всё напрочь. Он попытался вспомнить хотя бы, как зовут его самого. Но не вспомнил. Он помнил фамилию деда, отца, матери, дом на набережной, балерин, хождение вокруг церквей с хоругвями, какие-то гильзы и «лимонки» в карманах, площадь Дизенхоф, бойню в Брюсселе, правый пейс, за который его привязала к кровати сука-проститутка, свой литературный псевдоним, в коем смешались духмяные травы, шершни и колосящаяся гречиха… он вспомнил даже, как выпрыгнул с парашютом из какого-то «боинга», летящего в небоскрёб, необузданную и алчную учителку, бой под Генином, камень брошенный мальчонкой-арабом, черноглазым давидом-с-пращой, свою боль, кровь, лазарет, какого-то огромного хохочущего белобрысого филистимлянина по имени Кеша, марш на Вашингтон в чёрной шапке с прорезями для глаз, всех своих девок и баб, которых упомнить было просто невозможно, злобного писаку, всё стращавшего народ и пророчившего конец света, взорванный бэтээр в Чеченегии и себя, палящего из «кала-ша» по зелёнке, грязный Бет-Лехем, попа с лиловым лицом негра, застенчивые ивы на Чистых прудах, снова крестный ход, шипенье и цыканьс, Растроповича с автоматом, чью-то отрезанную голову у обочины, большую «восьмёрку» на колесе только что подаренного папаней и раздолбленного вдрызг «орлёнка», горькие слезы свои, комиссаров в пыльных шлемах и гоя на печи, и опять восьмёрку, пропеллером крутящуюся перед глазами, застящую свет белый, и слезы, и горечь, и боль, боль, боль… он вспомнил всё, или почти всё… но кто он, что, и зачем пришёл в этот свет… так и не сумел вспомнить.
Господь принял его скорбящую всеми скорбями душу. Для Него не было ни эллинов, ни иудеев, ни каинов, ни авелей, ни козлов, ни апостолов…
Была ночь. И была гроза. Жуткие раскаты грома громыхали в чёрных небесах злобным сатанинским хохотом, будто кто-то в небесной тверди злорадно смеялся над беспомощной землей и её жалкими обитателями. Сухая гроза. И высверк адских молний, бьющих как из преисподней: не сверху вниз, а наоборот. Казалось, что исполинские огненные стрелы раздирают земные покровы и устремляются в заоблачные выси, чтобы устранить наконец последнего вершителя справедливости… Но, похоже, его и так не было… скорее всего, он давно уже покинул этот свет, и силы мрака просто впустую изнуряли себя, сводя счёты с никчёмными, брошенными на их произвол людишками… Была страшная гроза.
Иннокентий Булыгин не спал. Он сидел в огромном кресле, утопая в нём, и при слабом свете ночника дочитывал последнее евангелие про самого себя, апокалипсис двадцать пятого века, где доживал свои последние часы его тёзка, а, может, и прапраправнук, кровь от крови, Ке-ша Мочила, русский странник во вселенной, бедолага, душегуб, погромщик, рецидивист-каторжник, ветеран тридцатилетней Аранайской войны, праведник, воин, последний солдат России и просто хороший человек… Было больно. И тревожно. Такие люди не должны были умирать. Их и так было немного, по пальцам перечесть… Но именно они умирали. И не только за себя.