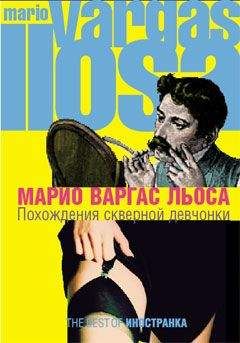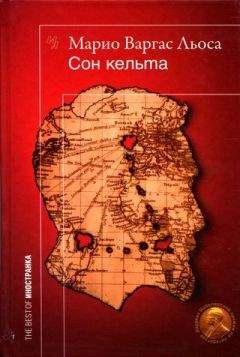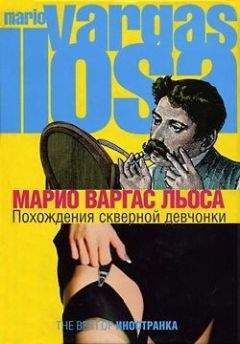— Отлично! — воскликнул я. — Нет никаких сомнений, что там «Метаморфозы» будут иметь такой же успех, как и в Мадриде.
— Ты, разумеется, поедешь со мной, — быстро вставила она. — И там сможешь работать над своими переводами и…
Но я погладил ее по голове и сказал, что не надо быть такой дурочкой и нечего изображать огорчение. Я не поеду в Германию, у нас нет на это денег. Я останусь в Мадриде и буду делать переводы здесь. А ей я полностью доверяю. Пусть готовится к поездке и выкинет из головы все остальное, ведь от результата может зависеть ее будущая карьера. Она всплакнула, обняла меня и прошептала на ухо: «Клянусь, что тогдашняя глупость больше не повторится, caro».
— Конечно, конечно, bambina — Я поцеловал ее.
В тот день, когда Марчелла уезжала во Франкфурт, я провожал ее на вокзал Аточа. Некоторое время спустя в мою дверь постучал Виктор Альмеда, который двумя днями позже должен был лететь туда же со всей труппой. На лице Виктора застыла серьезная мина, словно душу его раздирали глубокие противоречия. Я решил, что он явился, чтобы объясниться со мной по поводу того, что я увидел в «Олимпии», и пригласил его выпить кофе в «Барбиери».
На самом деле он пришел сообщить, что они с Марчеллой любят друг друга и что он счел своим нравственным долгом поставить меня об этом в известность. Марчелла не хотела причинять мне боль и поэтому решила пожертвовать собой и остаться жить со мной, хотя любит его. Такая жертва не только сделает ее несчастной, но и сломает ей карьеру.
Я поблагодарил его за откровенность и спросил, чего он ждет от меня. Я что, должен сам как-то разрешить эту проблему?
— Ну, в некотором смысле да. — Он секунду поколебался. — Если Вы не проявите инициативы, Марчелла ничего менять не станет.
— А почему, интересно знать, я должен по собственному почину идти на разрыв с девушкой, которую очень люблю?
— Из великодушия, альтруизма, — тотчас ответил он с таким театральным пафосом, что я чуть не расхохотался. — Потому что Вы джентльмен. И потому что теперь Вы знаете: она любит меня.
Тут я заметил, что хореограф вдруг перешел в разговоре со мной на «Вы», хотя в прошлые наши встречи мы обращались друг к другу на «ты». Неужели он таким манером решил напомнить, что я на двадцать лет старше Марчеллы?
— Ты не совсем откровенен со мной, Виктор, — сказал я. — Давай уж, признавайся до конца. Вы с Марчеллой вместе задумали этот твой визит ко мне? Она попросила тебя пойти поговорить со мной, потому что у самой не хватает духу?
Я увидел, как он заерзал на стуле и отрицательно помотал головой. Но, едва открыв рот, выпалил:
— Мы так вместе решили. Она боится, что ты будешь страдать. Ее мучают угрызения совести. Но мне удалось ее убедить: верным надо быть в первую очередь своим чувствам, а все остальное должно отступить на второй план. Мало ли кто и что скажет…
Я едва не похвалил его за то, что он выдал типичную глупую красивость, но удержался, потому что он меня уже утомил и мне хотелось, чтобы он немедленно ушел. Я попросил его оставить меня одного — надо обмозговать полученную от него информацию. Решение я постараюсь принять как можно скорее. Потом пожелал ему большого успеха во Франкфурте, и мы пожали друг другу руки. На самом деле я уже решил оставить Марчеллу с ее танцовщиком и вернуться в Париж. Но тут случилось то, что и должно было случиться.
Два дня спустя, когда в послеобеденное время я работал за своим любимым столиком в глубине зала, напротив неожиданно села очень элегантная дама.
— Я не стану спрашивать, любишь ли ты меня по-прежнему, потому что и сама знаю, что не любишь, — произнесла скверная девчонка. — Ты просто детоубийца.
Изумление мое было так велико, что я умудрился опрокинуть полупустую бутылку минеральной воды, и она разбилась вдребезги, забрызгав паренька с ирокезом и татуировками, который сидел по соседству. Пока официантка-андалузка старательно собирала осколки, я разглядывал женщину, которая столь неожиданным образом, по прошествии трех лет, воскресла в самое неподходящее время и в самом неподходящем для нее уголке земного шара — в кафе «Барбиери» в Лавапиесе.
За окном был конец мая, и стояла жара, но на скверной девчонке было светло-синее демисезонное пальто, под ним — белая блузка с открытым воротом, шею украшала золотая цепочка. Даже умелый макияж не мог скрыть худобы лица, выступающих скул и маленьких мешков под глазами. Мы не виделись только три года, а постарела она лет на десять. Передо мной сидела старуха. Пока андалузка продолжала вытирать пол, она барабанила по столу рукой с хорошо ухоженными и покрытыми лаком ногтями, словно только что покинула маникюрный кабинет. Пальцы ее стали тоньше и поэтому казались длиннее, чем прежде. Она смотрела на меня не мигая, без намека на улыбку и — дальше ехать просто некуда! — отчитывала за плохое поведение.
— Вот уж никогда бы не подумала, что ты станешь жить с сопливой девчонкой, которая тебе в дочери годится, — повторила она с негодованием. — Да еще с хиппи, которая наверняка никогда не моется. Как низко ты пал, Рикардо Сомокурсио.
Мне захотелось схватить ее за горло и долго хохотать. Нет, шуткой тут даже не пахло. Она закатила мне настоящую сцену ревности! Она — мне!
— Ведь тебе уже исполнилось пятьдесят три — или пятьдесят четыре, да? — спросила она, все так же постукивая пальцами по столу. — А этой лолите сколько? Двадцать?
— Тридцать три, — уточнил я. — На вид ей столько не дашь, это правда. Потому что она счастливая девушка, а счастье сохраняет людям молодость. Зато ты счастливой никак не выглядишь.
— Скажи, она моется? Хоть изредка? — вскинулась скверная девчонка. — Или к старости тебя потянуло на грязь?
— Я кое-чему научился у господина Фукуды, — ответил я. — Например, тому, что в постели всякое свинство имеет свою прелесть.
— Если желаешь знать, то сейчас, в эту вот секунду, я ненавижу тебя всеми фибрами своей души и даже хочу, чтобы ты умер, — выговорила она глухим голосом, не сводя с меня глаз и ни разу не моргнув.
— Тот, кто плохо тебя знает, сказал бы, что ты ревнуешь.
— Если угодно, да, я ревную. Но главное, главное — ты меня разочаровал.
Я взял ее за руку и заставил немного пригнуться ко мне, чтобы моих слов не услышал юнец с татуировками.
— Что означает весь этот цирк? Что ты здесь делаешь?
Прежде чем ответить, она вонзила ногти мне в руку. И тоже понизила голос:
— Ты не представляешь, как я жалею, что столько времени разыскивала тебя. Но теперь хотя бы знаю, что эта хиппи устроит тебе веселенькую жизнь, украсит тебя рогами, а потом бросит, как ненужную тряпку. И ты не представляешь, до чего я этому рада.
— А я тебе на это отвечу: у меня в таких делах богатый опыт — успел пройти хорошую школу. По части рогов и бросаний… Знаю все, что надо, и даже больше.
Я отпустил ее руку, но она тотчас сама вцепилась в мою.
— Я ведь поклялась себе, что словом не обмолвлюсь про твою хиппи, — проговорила она уже мягче, при этом смягчилось и выражение ее лица. — Но, увидев тебя, просто не могла сдержаться. Так и хочется расцарапать тебе физиономию. А теперь прояви галантность и закажи мне чашку чая.
Я подозвал официантку-андалузку и попытался высвободить свою руку из рук скверной девчонки, но та вцепилась железной хваткой.
— Признайся, ты и вправду любишь эту поганую хиппи? — спросила она. — Сильнее, чем когда-то любил меня?
— Знаешь, сейчас я вообще не уверен, что когда-нибудь любил тебя, — сказал я резко. — Ты для меня была тем же, чем для тебя Фукуда, — болезнью. А теперь я излечился — не без помощи Марчеллы.
Она молча смотрела на меня, так и не отпустив моей руки, потом ехидно улыбнулась — в первый раз — и сказала:
— Если бы ты не любил меня, не побледнел бы сейчас так и голос не дрожал бы. Надеюсь, ты не распустишь нюни, Рикардито? Ведь ты всегда был плаксой, если мне не изменяет память.
— Обещаю слез не лить и не рыдать. У тебя есть отвратительная привычка: нагрянуть внезапно, как кошмарный сон, когда этого меньше всего ждешь. И я ни капли не рад твоему появлению. По правде сказать, вообще не ожидал когда-нибудь снова тебя увидеть. Что тебе от меня понадобилось? Что ты делаешь тут, в Мадриде?
Когда принесли чай, я смог получше разглядеть ее, пока она бросала в чашку кусок сахара, размешивала и с брезгливой гримасой осматривала ложку, блюдце и чашку. На ней были белая юбка и белые босоножки, открывающие маленькие ступни с покрытыми бесцветным лаком ногтями. Ноги от колен и ниже опять стали похожи на две бамбуковых палки. Может, снова болеет? Такой худой я видел ее только в клинике в Пти-Кламаре. Волосы она зачесала назад, разделив на прямой пробор, и закрепила заколками над ушами, а уши, кстати, оставались такими же прелестными, как и прежде. Мне подумалось, что, если смыть краску, которой волосы обязаны своей чернотой, они наверняка окажутся серыми или даже белыми, как мои.