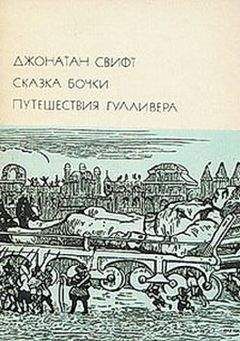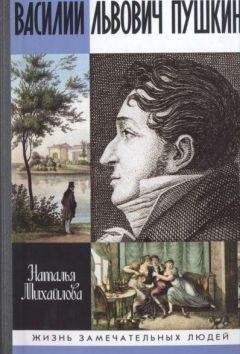Днем их голенькими клали в гипсовые формы; они лежали неподвижно, как ракушки в известняке; жирные мухи норовили сесть на пипу, пот щекотно стекал по ребрам под спину; к концу сеанса гипсовые формы превращались в ванночки с горячим соляным раствором. Все время хотелось покушать; что за еда бахчевые? поздним летом и осенью липкие «колхозницы»; зимой – соленые арбузы, закатанные в банки, как помидоры или огурцы; на сладкое сушеные семечки. Поэтому главные люди в Чарджоу – блатные; у них тельняшки, фиксы и наколки, они держат местный рынок и могут угостить кониной, провяленной до черноты; ее можно долго сосать и тереть зубами; а иногда они дают забесплатно забросить под язык зеленоватый душистый кайф.
В середине девяностых Томский приказал узнать: что стало с пацанами? Лучше бы не узнавал. Ему тогда пятидесяти не было, а все уже перемерли. Все. Кто заразился лагерным туберкулезом. Кто спился. Двое встретились на урановой зоне, под Челябой; Рахмонов за убийство, Иванов за групповуху. Убийца прикрыл насильника, не отдал петушить; через неделю одного обнаружили на хоздворе со ржавым гвоздем в ухе, а другой случайно свалился в шахту. Шешерин скончался от запущенного сифилиса; Серегу Пашкова нашли по запаху через неделю после смерти; он пил в одиночку, перебрал, случился приступ, а телефон был отключен за неуплату.
И Томский должен был плохо кончить. В восемь лет он сделал первую наколку на предплечье, блатные ему показали, как надо залазить через форточку в квартиру. Когда Шешерин плюнул ему в морду, Томский пошел в слесарку, взял ржавый напильник без ручки, вернулся, встал перед Шешериным на одно колено, и пока тот тупо на него глядел, пригвоздил шешеринскую ногу к земле – напильник прошел сквозь подметку сандаля. Кровь ударила вверх, как водяной вонтанчик на улице, попала в ноздрю…
Судьба была предрешена; вмешался случай. Дрюпочка отлично считал. По разнарядке в детский дом пришли контрольные вопросы матолимпиады; пожелтелый, усохший директор-туркмен вызвал Томского, усадил за столик у окна, лично устроил хороший сквозняк, чтобы мозги работали, и приказал: Дрюпа, решай! только правильно решай, слышишь меня, мальчик? И поцеловал его в макушку. Почему-то запомнилось: столик был светлый, лакированный, лак весь потрескался, а в нескольких местах пожух и вздулся. И еще был запах жаркой свежести. И трепыхалась короткая, выцветшая добела занавеска.
Потом была победа, прекрасная столица их республики, вся пестрая от полосатых шелковых халатов, красивая грамота с белым профилем Ленина, переезд в московский интернат для юных физиков и математиков; учеба, учеба, учеба; жадное счастье познания; а потом учеба кончилась, и пришлось выбирать. Или наука, голод, общежитие. Или заработки, схемы и аферы. Он выбрал то, что выбрал. И никогда не позволял себе об этом сожалеть. Хотя и каялся за прегрешения.
И о чем сожалеть, если все получилось? Прошлое слиплось и ссохлось в комок, отброшено, как грязное белье в стиральную машину; щелк! и бодро пенится вода, смывая все дурное без остатка. Он смог, состоялся; пока все раболепно протирали брюки в бесконечных трестах, занимали денег в кассе взаимопомощи, мелко воровали финскую бумагу, распределяли в очередь заказы с синеватой курой, золотыми шпротами и гречкой, он – жил. Просторно, не робея. Это ведь особое искусство – жить с размахом. Это счастье.
Вот карта страны, в кабинете. И сквозь нее, как сквозь прозрачную стену, ты видишь повсюду – себя. Прилетаешь затемно, мчишь по заснеженной плоской дороге, сквозь нарастающий свет; облепленный роем начальства, проходишь по своим цехам, где когда-то все было пусто, грязно и мертвенно тихо, а теперь гремит, вздымается, стремится. Тысячи людей, при деле, при зарплате; каждый знает, что ему нужно делать; каждый живет – не напрасно. Это стоит того, чтобы откупаться, вилять и поддерживать отношения.
Правда, возраст изредка дает о себе знать. Здоровье крепкое, прокаленное. Но как-то вдруг, внезапно, вырубается интерес. Живешь, решаешь проблемы, все получается; хоп, и оцепенение. Потом справляешься с собой, возвращаешься к нормальной жизни. Но как-то неправильно мягчеешь. А в этом деле мягчеть нельзя. Игумен Андроник, внимательный дядька, все видит насквозь, года полтора назад посоветовал ему: Андрей Николаевич, знаете что? не срывайте резьбу. Смените обстановку. Что-нибудь такое… экстремальное… например, через пустыню. Как наш возлюбленный владыка с вашим дорогим Чубайсом. Ангела-хранителя вам в путь.
Идея вдохновила; он начал готовить маршрут. Только не через пустыню; в Чарджоу он песка насмотрелся на всю оставшуюся жизнь. Пусть будет вода. Большая вода. Океан. Считалось, что они пойдут втроем. Томский, Степан и Андрюшка. Мелькисаров, засидевшийся в своей загранке, придумал взять на Гугле страницы космических снимков, сделанных со спутников слежения. Океан похож на черный мрамор с белыми прожилками. Вручную, на компьютере совместил красивую картинку с лоцманскими картами, и вывел на термопленку с клеевой основой. Они собирались обтянуть стены кают-компании, а потом флажками отмечать отрезки, пройденные за день…
И тут объявилась Аня. Томский сразу понял: дело швах. Андрюха потерян для дела. Они отложили поход на полгода, потом еще на три месяца, и еще на два; знаменитый путешественник Кучерский, запросивший невшибенных денег за океаническую яхту, терял терпение, ставил ультиматумы: либо в этом мае, либо никогда, у него потом другие планы.
А сегодня Томский понял: вот оно! сына меняем на сына. Раньше просто в голову не приходило, что Тёма – дозрел. И в мае он наверняка свободен; лицей раздаст дипломы в конце апреля.
3Они сидели дома, на крылечке; окна выходили на железную дорогу; дерзко свистанув, из-за поворота вылетел поезд. Впереди глазастый паровоз, под трубой аршинный лозунг «Из варяг – в греки!». На платформах, вместо вагонов, разные домики. Кирпичные, шлакозасыпные, из неоструганного бруса. Возле домов происходит жизнь: бабы развешивают драные простыни, аршинные трусы; сопливые мальчишки стреляют из рогаток по воронам; мужики строгают рубанком, желтая стружка отлетает вниз. Мелькисаров смотрит: а они уже и сами – с Жанной – на платформе; едут куда-то, за спиной стоит их дом, а мимо пролетают степи.
После таких невнятных снов просыпаешься с чувством вины. Перед кем и за что непонятно. Сквозь полуспущенную штору сочится раннее римское утро; на часах половина пятого; еще не понеслись мотоциклисты – тихо; из окон тянет тепловатой сыростью: февраль. Мелькисаров шарит под кроватью тапочки, бредет на кухню. Стальной аппаратик громко жужжит; чем-то похоже на быструю, недовольную итальянскую речь. Густо пахнет кофейной жижей… Чашка, другая, третья… Главное не разбудить Джованну; она солидно всхрапывает в своей отдельной спальне; девушке рано вставать, полусонно ползти на службу в магазин нарядного белья. Не то, что ему.
Зато ей совершенно все равно, есть посторонние в доме, или нет; а он уже год как смиряется. Живет с чужой, ненужной, излишней женщиной. Чуть полноватой, но симпатичной; охотно нанял бы ее убираться три раза в неделю и при случае как следует щипнул. Ощущает кислотные запахи, наспанные ею за ночь и способные мгновенно, ядерным выбросом распространиться по квартире, как только одеяло скинут; слышит утреннее шлепанье по выстуженному кафелю, жизнеутверждающий спуск воды в унитазе, мелкое журчание биде, наглое завывание фена, базарный разговор по телефону; видит на сияющем кафеле ванной – оползни длинных волос, кругляши лобковой поросли, недосмытую пену на круглой зеленой бритве… И ничего, справляется. Потому что – а куда деваться? Каждую минуту может нагрянуть полиция, чтобы проверить: ведется ли совместное хозяйство? на месте ли теплые тапки? По-другому получить гражданство невозможно; терпи и доказывай: брак настоящий; а не хочешь – мы не принуждаем, поезжай домой.
Но домой – нельзя. Первое дело, по Вушкэ, закрыто; второе, по Лотяну, люди Томского ведут к развязке; спасибо Андрею, не сдал. Но не успеваешь откупить одну угрозу, как тут же нарождается другая. Сначала Сергиенкова разыскала его электронку и прислала осторожное письмо. По форме – болтовня с когдатошним начальником про жизнь, про утекающие годы и про домишко возле Лимассола, двадцать километров к югу, хорошо, но пейзаж унылый, море каменистое, босиком не походишь: не Сочи. По содержанию – сигнал тревоги, штормовое предупреждение. Физтеховцев стали таскать на беседы; вы же понимаете, Степан Абгарыч, в чем загвоздка. Ну, прощайте же, держитесь и всех благ.
Вроде бы Томский и в этом вопросе нащупал ценовое дно; сколько – не сообщает, дареному коню, и все такое. И тут – последний удар, под дых. Отмывание… в особо крупных… та самая папка, с которой к нему приходили лейтенант с майором. Продали все-таки. Мразь ментовская. Узнав об этом, Мелькисаров обозлился так, что потерял контроль. Перерыл бумажные залежи, отыскал рекламную открытку, которую привез когда-то из Парижа, с выставки российского искусства: два мента, среди березок на снегу, целуются взасос, и ручки ласково кладут на попки. Написал на обороте: Рома, любимый! Скучаю. Твой Степа… Не поленился запутать следы: доехал до границы, шлепнул испанскую марку – и отправил без конверта, на адрес отделения. Пускай коллеги лейтенанта почитают.