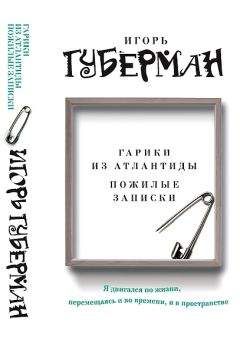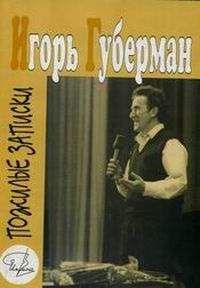— Давание советов — это реализация подсознательного стремления управлять чужими судьбами.
Я так испугался этой глубокой мысли, что с тех пор советов никому не даю. Особенно если их у меня просят.
Глава эта совсем о другом, и много будет в ней всякого околонаучного (мной нагороженного) вздора, поэтому я вовсе не уверен, что ее имеет смысл читать. Но написать ее мне очень хотелось. Потому что некогда я остро заболел интересом к нашему психологическому устройству и нечто должен рассказать.
Науки, как известно, делятся на точные (уважаемые за глубину и точность), естественные (почитаемые за познание естества) и гуманитарные, то есть неточные и неестественные. К сожалению, психология ввиду полной загадочности нашего душевного устройства относится скорей к наукам последним, отчего распахнута любым гипотезам, догадкам и толкованиям. Не говоря уже об иллюзии доступности, в силу чего психологом почитает себя каждый — особенно если заходит речь о неприятных ему людях.
Не помню, откуда и когда во мне вдруг вспыхнул этот интерес. Не в те ли розовые годы зеленой молодости, когда я был по уши влюблен в одну знакомую девицу из немыслимо интеллигентной семьи? Девица тоже была вся из себя возвышенная, трепетная, утонченная — и лень сейчас мне рыться в словаре, ища синонимы того же ряда, но поверьте на слово — они все про нее. Она училась музыке, была завзятой театралкой, и даже в дом к ним лично хаживал не помню кто, но по изящному искусству. А я, балбес и неотесанный мужлан, я помирал возле нее, мечтал ей как-то интересным стать хотя бы, но мне нечем было похвалиться. Ведь не мог я, например, ей рассказать, что в институте был сегодня у меня удачный день, поскольку явно я лидирую в многодневном соревновании с двумя дружками, вряд ли им уже меня догнать. У нас такая шла на лекциях игра: один спугивал муху, а второй ловил ее на лету. Мы таким образом развивали реакцию. Я в этой области немалого достиг. А говорить о книгах тоже было ей неинтересно, она душой своей, немыслимо высокой, витала только в музыке и в оперном вокале. Но я любил ее, и я купил билеты в стереокино. Они тогда много дороже были, чем в кино обычное, но я купил. Я поразить ее хотел. И своего добился. В зале сидя, она свою немыслимой прелести ладошку положила на мою застывшую от нежности ладонь (левой руки, что важно для рассказа). А покуда еще горел свет, мы ворковали что-то дивное и неразборчивое — счастье облаком тумана овевало мою воспаленную голову. Но что-то мне мешало, отвлекая. Что именно, я сообразил в секунду, когда правая рука привычно вскинулась, и в кулаке моем со злобой зажужжала пойманная муха.
Я от растерянности и стыда ее не сразу отпустил. Кино мы посмотрели, но ладошку я взять сам не смел. И мы расстались, оба понимая степень нашего духовного несходства. И хотя произошло это не сразу, но та муха обозначила границу. А года через два я даже у нее на свадьбе был. А как мне повезло, я понял позже, и с тех пор той мухе благодарен.
Но все-таки, наверно, не тогда меня постиг азарт познания. А как он был во мне подстегнут, помню очень хорошо. Уже в ту пору собирал я разную живопись, и ко мне повадился ходить один офеня-коробейник. Он у меня брал две иконы девятнадцатого века, исчезал месяца на полтора и приносил тоже две, но восемнадцатого — я мог выбрать себе одну. Моя коллекция таким образом улучшалась, а сколько он зарабатывает на таком обмене, совершенно не интересовало меня. Был он молод, молчалив, слегка застенчив; изредка мы разговаривали с ним об истории живописи, он где-то учился по этой части. При одном таком его визите заглянул ко мне случайно мой приятель — циник и доморощенный психолог. Коробейник вышел навестить наш сортир, времени оказалось достаточно, чтобы приятель спросил, кто это, а я обнаружил полное незнание. Звали его Миша, но откуда он возник и кто его прислал, я не помнил, хоть убей меня.
— И всегда исправно приходит? — недоверчиво спросил приятель.
— Да, — ответил я, — уже побольше года это длится: две возьмет, две принесет, одна моя, простой и честный обмен.
— А по четыре, например, не брал? — настырничал приятель.
— Нет, — ответил я, — только по две.
И тут приятель мой сказал проникновенно:
— Всякая нравственность имеет свой материальный эквивалент. Вы до него просто не дошли.
Тут возвратился коробейник Миша, мы стали выбирать обменные иконы, но слова этого беса-искусителя не выходили у меня из головы.
— Миша, — сказал я, томимый исследовательским азартом, — почему вы всегда берете только по две? Возьмите четыре, это улучшит возможности обмена. Вот как раз я приготовил, с этими я вполне могу расстаться.
Нет, он не то чтобы изменился в лице, побледнел и заметался, но ему явно не хотелось брать больше, чем всегда. Может быть, он просто знал материальный эквивалент своей честности, а расставаться со мной ему не хотелось? Эта провокационная мысль только усугубила мою настойчивость, он взял четыре.
И более я никогда его не видел. Я о пропаже не жалел, я восхищен был, как приятель-циник тонко понимает психологию. Но почему такая мысль ни разу не возникла у меня? Впоследствии я на такой вопрос уже спокойно мог ответить.
А пока — еще одна печальная история. Давным-давно когда-то, много лет тому назад, с тремя приятелями вместе навещал я время от времени знаменитого автора «Интервенции» Льва Исаевича Славина. Мы по очереди завывали ему свои стишки, он нас всегда хвалил, а нам рассказывал об Ильфе, об Олеше, о Багрицком, и сердца наши то замирали сладко, то учащенно бились в предвкушении собственной литературной состоятельности. Были мы молодые, наглые от застенчивости и почтения, веселящиеся ни от чего, поскольку пенились собственным шампанским. Нас поили чаем с булками, поэтому бутылку мы то приносили с собой, то распивали для пущего куража при подходе к дому. Там нам было интересно и уютно. Тонкой и едкой грустью сочились все истории Льва Исаевича, только мы, кретины, объясняли это лишь возрастом и мудростью.
А в это время появилась рукопись книги Аркадия Белинкова о Юрии Олеше. Белинков просидел в лагере двенадцать лет и чудом выжил, был невероятно этот человек талантлив и одной высокой страстью одержим: ненавидел он советскую систему до такой каленой ярости, что со временем не выдержало сердце. Это уже в Америке случилось — уехав, он затеял там журнал под единственно любезным ему названием — «Колокол».
Книга его о Юрии Олеше была безжалостной, горькой и пронзительно точной. И не зря она потом в подзаголовке называлась «История сдачи и гибели русского интеллигента». Убедительно и зримо в ней показывалось, кем обещал и не сумел стать Юрий Олеша, как эпоха согнула, надломила и скрутила его талант и личность. Тонко и едко, словно кислотой по металлу, вытравлены были черты зловещего времени, жестоко убивающего в людях самый дух вольной игры и вольной мысли. Уважение к таланту и печаль по нему пронизывали рукопись, невзирая на ее беспощадность и прямоту, щемящей интонацией безжалостного понимания.
Рукопись попала на отзыв ко Льву Исаевичу Славину. Мы к тому времени уже ее отрывками читали, и мэтр дал нам посмотреть свою рецензию.
Она была уничтожающей наотмашь. Ядовито-остроумная, насыщенная умом и чувством, эта маленькая статья по виртуозности разящих замечаний казалась сочиненной молодым и яростным полемистом, а не тем усталым, сильно выцветшим и поэтому вяло снисходительным стариком, каким был наш любимый хозяин. Возвращая рецензию, я осмелился почтительно сказать, что вряд ли стоило так заведомо хоронить явно талантливую книгу, ведь любая мысль имеет право на существование, если она действительно мысль, да к тому же так блестяще изложенная.
— Я сперва тоже подумал, — медленно ответил Славин, — почему за этот отзыв меня так пылко благодарят всякие издательские подонки. Но мне кажется, что действительно неверны все линии книги. Все было в жизни Олеши не так, вовсе по-иному в проявлениях и не так неумолимо шло на спад. Совершенно не так! — тут он повысил голос, начиная волноваться, и все дружно замяли разговор.
На душе у меня было смутно и тяжко. Снова рушилась черно-белая картина моего мироздания. Впервые в жизни обнаружил я, что замечательные люди могут быть враждебны друг другу, и для убийства книг и мыслей совсем не обязательно участие заведомых мерзавцев. А чуть позже понял я, что самого себя и свою творческую судьбу защищал этот сильно траченный эпохой старый человек, так некогда блестяще начинавший, столько обещавший и не смогший. Оттого и разум, и душа его восстали дружно и искренне против рукописи, судившей его сверстника. Вполне искренне, совершенно не осознавая подоплеки. Охраняя себя и свое душевное равновесие. Оправдывая собственную жизнь. А потому и не случайны были даже молодые яростные интонации отповеди: прожитые годы встали на защиту памяти о себе.